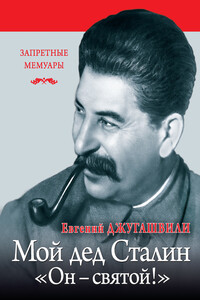![]()
«Преступление и наказание» — один из самых серьёзных, глубоких и оригинальных романов Достоевского. Вместе с тем это и один из наиболее удачных его романов. Но вместе с тем и недостатки художественного творчества Достоевского выступают в этом романе так же ярко, как сила и глубина его психологической наблюдательности.
Роман этот — история бедного, самолюбивого, неглупого и неподлого человека, с мыслию довольно пробуждённою, с потребностью значительного дела и личного счастия и с разъедающим сознанием, что судьба, при обычных условиях, не даст ему ни того, ни другого. Юноша этот, заточённый своим самолюбием бедняка, как в тюрьму, в свой душный чердак, на всяком шагу своей страстной молодой жизни испытывает тяжкие лишения и оскорбления, неразлучные с нищетою.
Он мечтал быть честным и полезным деятелем в обществе, он очень любил мать и сестру, переносящих бедность в далёком провинциальном углу, и надеялся, покончив своё образование в университете, переменить свою судьбу. Он так верил в себя, в будущее, в силу образования. Недаром же он допускал и мать, и сестру лишать себя последнего, чтобы помогать ему окончить курс в университете. Он уверен был, что сумеет скоро и сторицею вознаградить их. Но вот он на ногах — и нуждается всё так же, нуждается ещё более; мать и сестра по-прежнему жертвуют всем, и он по-прежнему вынужден принимать их жертвы.
Человек с здравым и практическим взглядом, конечно, перенёс бы эту весьма естественную критическую минуту почти всякой начинающейся деятельности и, при крайней потребности в людях на родной Руси, разумеется, недолго бы дожидался какой-нибудь производительной работы.
Но герои Достоевского всегда раздражённые, всегда ипохондрики, всегда страдальцы. И его Раскольников отвечал бедности не спокойною борьбою, а только внутренним страданием. Автор мастерски изобразил чисто физическое влияние низенького, тесного и грязного чердака, в котором постоянно валялся на своей постели его раздражённый герой, на развитие в нём ипохондрии и, наконец, даже злобной мизантропии.
Там, среди желчных монологов с самим собою, которые занимают добрую часть романа, Раскольников решается переменить свою судьбу ловким убийством старой нравственно отвратительной ростовщицы, существование которой с самой снисходительной точки зрения могло быть только вредом для людей.
Необыкновенная тонкость и глубина психологического наблюдения обнаружена автором в каждой мелкой подробности, которыми он обставил подготовление и совершение этого убийства и которые наполняют всю первую часть из числа шести частей романа.
Можно сказать, что ничего подобного, по обстоятельности исследования и внутренней психической правде, не представляет наша литература в своих разнородных описаниях преступлений.
Так как убийство замышлялось и исполнилось Раскольниковым в одиночку и читатель в первой части романа почти не имеет дела ни с кем, кроме самого преступника, то вся характерная сила таланта Достоевского могла развернуться свободно в этом своего рода внутреннем дневнике Раскольникова. Оттого он производит здесь вполне цельное и вполне подавляющее впечатление. Вы словно сами сидите в нём, в его воспалённом и смущённом мозгу, тревожно бредите с ним на его одинокой постели, трусливо крадётесь с ним за топором в конурку дворника, делаетесь вместе с ним обезумевшим автоматом-убийцею в роковых тёмных комнатках старой ростовщицы.
Что автор действительно горько и тяжело пережил на самом себе последовательные ощущения своего героя, что он действительно передумал и выстрадал всем своим существом каждый оттенок мысли Раскольникова, когда писал эти замечательные страницы, — в этом сомневаться невозможно. Только такое всецелое перенесение себя в душу своего героя в состоянии было дать такое удивительно правдивое и удивительно выразительное изображение.
Эта инстинктивная «проба» предстоявшего, но ещё далеко не решённого убийства, которою начинается роман; это что-то роковое, словно вне человека стоящее, что непобедимо толкает его волю туда, против чего она упирается, эта нераспутываемая сложность побуждений, ужасающих и влекущих, — переданы автором с неподражаемым правдоподобием.
«Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно „пронесётся“, и уже ждал её; да и мысль эта была совершенно не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера ещё, она была только мечтой, а теперь… теперь явилась вдруг не мечта, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это… Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах».
Автор не назвал вам этой мысли, не объяснил ничего, но не правда ли, читатель, на вас пахнуло холодом ужаса, как от чего-то невыразимо страстного, что неминуемо готовилось впереди словно без воли и ведома человека?
То же необъяснимое ощущение своей роковой зависимости от чего-то, что зрело само собою в душе Раскольникова, против чего он напрасно боролся и чего он трепетал, с необыкновенною меткостью и тонкостью наблюдения схвачено автором в другой сцене, когда смущённый духом Раскольников отправлялся, как бы инстинктивно отыскивая помощи против самого себя, к университетскому товарищу своему Разумихину.