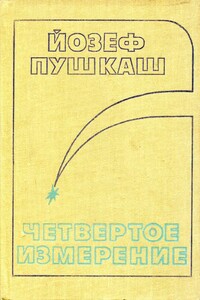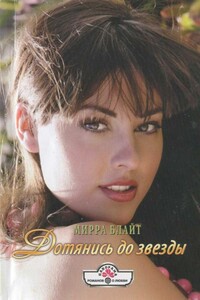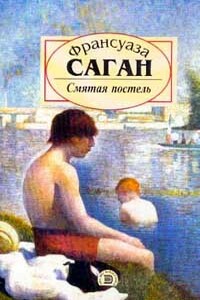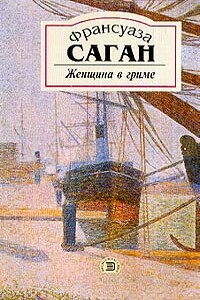Посвящается Пегги Рош
А может быть, и ты —
Всего лишь заблуждение ума,
Бегущего от истины в мечту?
Ш. Бодлер
Вечером мы должны были идти в гости к Алферну, молодому светскому врачу, и я долго колебалась, идти или нет. Этот день, который я прожила с Аланом, моим мужем, день, поставивший крест на четырех годах любви, ссор, нежности и бурных сцен, я предпочла бы завершить в объятьях Морфея или взять и напиться. Во всяком случае, остаться в одиночестве. Но, разумеется, Алан, как законченный мазохист, настоял, чтобы мы пошли к Алферну. Он делал счастливое лицо и улыбался всякий раз, когда его спрашивали, как поживает самая прочная супружеская пара в Париже. Отшучивался, нес какую-то забавную ерунду и не отпускал при этом мой локоть, сжимая его изо всех сил. Я видела в зеркалах наше прелестное отражение и улыбалась ему: оба мы высокие, худощавые, он – голубоглазый блондин, я – брюнетка с серыми глазами, одинаковая манера держаться и одинаковое ощущение поражения, теперь уже совершенно очевидного. Однако Алан зашел слишком далеко: когда на вопрос какой-то растроганной дуры: «Скоро я буду крестной, Алан?», он ответил, что таким мужчиной, как он, моя жизнь заполнена целиком и двоих я не заслуживаю, – я пришла в ярость. «Это правда», – сказала я и, как иногда бывает в музыке, когда мощный аккорд означает вступление новой темы, вырвала руку из руки Алана и повернулась к нему спиной. Вот так, на коктейле, похожем на все прочие коктейли парижской зимы, я оказалась лицом к лицу с Юлиусом А. Крамом. Я так быстро и грубо вырвалась, что спиной почувствовала, как Алана затрясло от злости. Лицо Юлиуса А. Крама – именно так он мне представился: Юлиус А. Крам – лицо его было бледно, тускло и замкнуто. Не зная, что сказать, я спросила, нравятся ли ему выставленные здесь картины. В самом деле, прием был затеян с целью продемонстрировать полотна, написанные любовником хозяйки дома, неугомонной Памелы Алферн.
– Какие еще картины? – сказал Юлиус А. Крам. – Ах, да! Кажется, я вижу одну у окна.
Он направился туда, и я машинально последовала за этим человечком, который был на полголовы ниже меня, так что мне были видны зачатки лысины у него на голове, предвещавшие ее скорую победу. Он резко остановился перед одной из картин, написанных, казалось, из большого желания сойти за художника, и поднял голову. У него были круглые голубые глаза за стеклами очков и удивительные для таких глаз ресницы: пиратские паруса над рыбачьим баркасом. С минуту он разглядывал картину, потом издал какой-то хрип, больше похожий на собачье рычание, чем на человеческий голос, и я уловила что-то вроде: «Какой ужас!» – «Простите?» – сказала я, ошеломленная, потому что этот лай показался мне хоть и обоснованным, но нелепым, и он повторил так же громко: «Какой ужас!» Несколько человек, стоявших рядом с нами, попятились, будто запахло скандалом, и я осталась одна, застряв между картиной и доблестным Юлиусом А. Крамом, который явно не был расположен дать мне удрать. Позади нас пополз шепоток. Да, да, Юлиус А. Крам отчетливо произнес, причем дважды, «какой ужас», имея в виду эту картину, а очаровательная Жозе Эш – то есть я – ни слова не возразила. Ропот достиг шестого чувства величественной мадам Дебу, и она обернулась к нам. Мадам Дебу была особа выдающаяся. С непререкаемой властностью она правила этим светским кружком. В шестьдесят с чем-то лет она держалась очень прямо, была весьма элегантна, черноволоса, а состояние ее мужа (который давно скончался от общего перенапряжения) обеспечивало ей чрезвычайную независимость и, как следствие этого, чрезвычайную кровожадность. В любых обстоятельствах – драма ли случалась или торжество – мадам Дебу часто все улаживала, а иногда и разрушала, неизменно вновь оказываясь одна и неизменно твердо стоя на ногах, как обязывала фамилия, которую она носила.[1] Ее указы обжалованию не подлежали, как и ее пристрастия. Наконец, она мгновенно распознавала ретроградство в произведениях искусства новых направлений и смелость в вещах банальных. При всем том, если бы не ее природная, неискоренимая злоба, она была бы умна.
Почувствовав, что происходит нечто непредвиденное, она тотчас направилась к нам, окруженная незримой свитой воинов, шутов, лакеев, ибо, хоть она и была всегда одна, постоянно казалось, что рядом полно готовых на все наемных убийц. Это создавало вокруг нее некую запретную зону, почти осязаемую, исключавшую любое проявление вольности.
– Что вы сказали, Юлиус? – осведомилась она.
– Я говорил этой даме, – сказал Юлиус без тени страха, – что картина ужасна.
– Вы думаете, это было необходимо? – сказала она. – Кстати, она не так уж плоха.
Она указала на святого Себастьяна, пронзенного стрелами и окончательно добитого Юлиусом. И движение подбородка, и ее интонация были безупречны: смесь презрения к художнику, сострадательной терпимости к слабостям хозяйки дома, ненавязчивого призыва к порядку и соблюдению приличий, обращенного к Юлиусу.
– Эта картина рассмешила меня, – сказал Юлиус А. Крам вдруг изменившимся голосом, с каким-то присвистом. – Ничего не могу поделать.