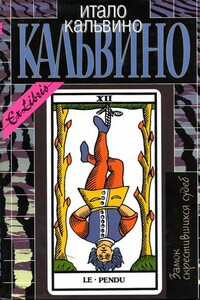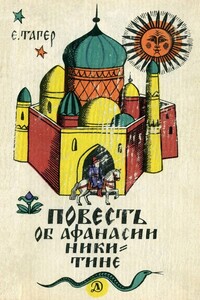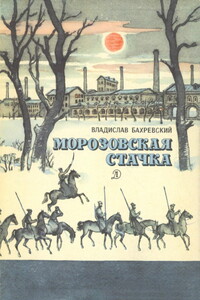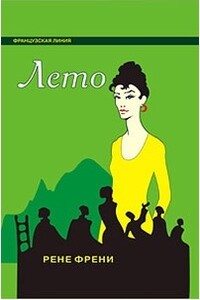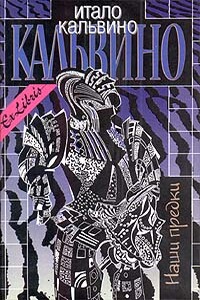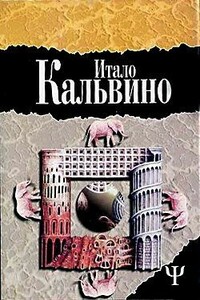Нет, Кублай-хан не верит тотчас же всему, что Марко Поло говорит о городах, где побывал он с ханской миссией, но, без сомнения, татарский император вновь и вновь склоняет слух свой к молодому этому венецианцу с большим любопытством и вниманием, нежели к иным своим посланцам и дозорным. В жизни императоров бывает миг, когда за чувством гордости от бескрайности захваченных владений, за печальным, но и утешительным сознанием того, что скоро мы расстанемся с надеждою познать их и понять, однажды вечером мы вдруг испытываем ощущение пустоты, проникнувшей в нас вместе с запахами пепла от сандала, стынущего в глубине жаровен, и слонов, омытых дождевой водой, и головокружение — так что дрожат запечатленные на рыжем крупе полушарий реки и горы, в глазах мелькают, наплывая друг на друга, депеши с сообщениями о новых поражениях последних вражьих армий и крошится сургуч печатей неизвестных королей, молящих наше наступающее войско о защите в обмен на ежегодную уплату ими дани драгоценными металлами, дубленой кожей, черепашьими щитами,— так вот, приходит миг отчаянья, когда становится вдруг ясно, что империя, казавшаяся нам собранием всех чудес,— сплошная катастрофа без конца и края, что разложение ее слишком глубоко и нашим жезлом его не остановить, что, торжествуя над неприятельскими суверенами, наследовали мы их длительный упадок.
И только в донесениях Марко Поло удавалось Хану различать сквозь стены и башни, обреченные на разрушение, филигрань столь тонкого рисунка, что его не смог бы укусить термит.
Пустившись в путь и двигаясь три дня к востоку, попадаешь в Диомиру — город, где ты видишь шесть десятков куполов из серебра и улицы, мощенные оловянной плиткой, театр из хрусталя и бронзовые статуи богов, где что ни утро раздается с башни пение золотого петушка. Для путника, однако же, красоты эти не новы, подобные являли ему и другие города. Особенность же Диомиры в том, что прибывающий туда сентябрьским — уже ранним — вечером, когда над входами во все таверны разом загораются цветные огоньки и раздается женский вскрик с какой-то из террас, случается, завидует тому, кто в это время думает, что в жизни его был уже такой вот вечер и он чувствовал себя тогда счастливым.
У долго скачущего по безлюдной местности рождается желание увидеть город. Наконец он достигает Исидоры — города, где винтовые лестницы в домах украшены морскими раковинами, где по всем правилам искусства изготавливают скрипки и бинокли, где для чужеземца, если тот колеблется, какую из двух женщин выбрать, обязательно найдется третья, где петушиные бои кончаются кровавыми побоищами между теми, кто делал ставки на бойцов. Все это он представлял себе, мечтая о городе. Значит, Исидора — город его грез, с одной лишь разницей: в том городе, который он воображал, себя он видел молодым, а в Исидору приезжает человек в годах. На площади сидят бок о бок старики, глядят на молодежь, которая проходит мимо; среди них сидит и он. А о желаниях теперь он только вспоминает.
Рассказ о городе, носящем имя Доротея, может быть двояким: можно сообщить, что там четыре алюминиевые башни возвышаются над стенами между семью воротами, снабженными пружинными подъемными мостами, перекинутыми через ров, наполненный водой, питающей четыре сплошь заросших ряскою канала, проходящих через город, разбивая его на девять кварталов, каждый с тремя сотнями домов и семьюстами дымоходами; и, зная, что невесты каждого квартала выбирают женихов себе в других и семьи их ведут обмен товарами, которые являются их монополией,— бергамотом, осетровою икрою, астролябиями, аметистами,— с учетом этих данных вычислить любые сведения о минувшем, настоящем и грядущем Доротеи; ну, а можно на манер погонщика верблюдов, что привез меня туда, сказать: «Когда однажды утром я, совсем мальчишкой, приехал в этот город, множество людей спешило в сторону базара, женщины, сияя белозубыми улыбками, смотрели прямо мне в глаза, три молодых солдата, стоя на помосте, наигрывали что-то на кларино, всюду развевались красочные надписи, вертелись там и сям колеса. Я прежде видел лишь пески и караванные пути, и вот в то утро в Доротее я почувствовал, что нет такого блага, на которое я не могу надеяться. Потом пришлось мне снова озирать пустыню, вглядываться в караванные тропы, но теперь я знаю: это лишь один из множества путей, открывшихся передо мной в то утро в Доротее».
Напрасно, благородный Кублай-хан, рассказывал бы здесь тебе я о Дзаире и ее высоких бастионах. Я мог бы называть тебе число уступов улиц, нисходящих лесенкой, говорить о форме арок портиков и оцинкованных листах, которыми покрыты кровли, но я знаю: это все равно, что не сказать ни слова, ведь определяют лик Дзаиры отношения, связывающие пространственные измерения и события былых времен: к примеру, расстояние от земли до фонаря и ноги узурпатора, что был там вздернут; проволоку, протянутую от фонарного столба к ближайшему балкону, и гирлянды, украшающие путь, которым следовал кортеж в день бракосочетания королевы; расположение водостока и исполненное важности движение по нему кота, что прошмыгнул в окно за упомянутым балконом; траекторию снаряда канонерки, вынырнувшей из-за мыса, и ядро, ударившее в водосточную трубу; дырявые рыбачьи сети и трех стариков, что, починяя их на молу, рассказывают в сотый раз про канонерку узурпатора, который был как будто бы побочным сыном королевы, в пеленках брошенным на этом же молу.