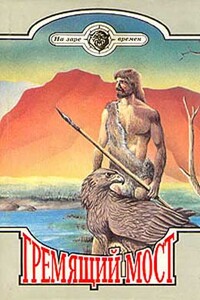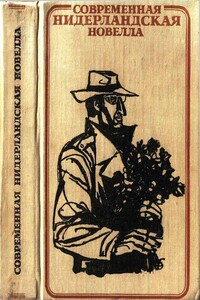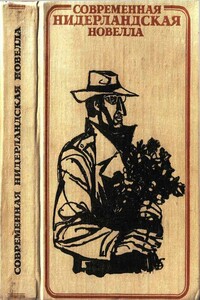Четыре воспоминания военных лет
Голод
Когда Фин закрыла за собой дверь и тяжкой старческой поступью стала подниматься по лестнице, мефрау Волсма сказала мужу: — Вот пожалуйста — девять часов, и она опять уходит.
Муж, еле различимый в неверном свете коптилки, пожал плечами.
— Она же пошла выпить глоток воды.
— Это она так говорит, — прошипела мефрау Волсма заговорщицким шепотом. — Уж поверь мне, у нее в комнате кое-что припрятано. И она там ест.
— Да что у нее может быть? — примирительно возразил муж. — Карточки ее у тебя, и ест она всегда вместе с нами. Нет, ничего она не могла припрятать, я уверен. Ну сама подумай, Фин ведь не просто квартирантка, мы знаем ее чуть не тридцать лет. И она целыми днями здесь, у нас на глазах.
— Еще бы, черт ее побери, — язвительно усмехнулась жена. — Она торчит здесь, потому что я разогреваю еду. Потому что я топлю печь. И свет у меня…
— Вот этот, что ли? — перебил ее муж, кивнув на коптилку.
Но жена, голос которой от ненависти и возбуждения срывался на визг, крикнула: — Говорю тебе, она жрет! Каждый вечер в девять часов. «Глоток воды» — смех один! Нет. Наша милая приятельница, которую мы знаем уже тридцать лет, припрятала лакомые кусочки и наслаждается сейчас, пока мы тут зубами щелкаем от голода. — И так как муж недоверчиво пожал плечами, она зло выкрикнула: — Не веришь? Поднимись сейчас наверх — увидишь собственными глазами.
Он посмотрел в осунувшееся, искаженное злостью лицо жены, и ему стало грустно. Очень грустно.
— Да ладно тебе… — миролюбиво начал он. Но она прошлепала к двери, приоткрыла ее и прошипела:
— Иди же, Хенк. Я должна это знать. — Правда, в тоне ее слышался не столько приказ, сколько мольба.
Он и сам не мог бы сказать, почему, собственно, он встал и, обойдя жену, стоявшую на пороге, вышел из комнаты… Чтобы избавиться от всего этого. А может, из сострадания? Или в глубине души он все-таки тоже был не прочь выяснить, чем там, наверху, занимается Фин? Осторожно, на цыпочках, он начал подниматься по темной лестнице, но на полпути остановился, ошеломленный внезапной мыслью: да что же он такое делает! Это же чудовищно! Однако как все-таки быть? Вернуться назад? Но ведь Анна не успокоится, опять устроит скандал. Охваченный вдруг смертельной усталостью, он опустился на ступеньку, провел рукой по лицу. Господи, до чего же противно! Еда, еда, еда — целый день только об одном и твердят. Утром, не успеешь встать с постели, первый вопрос: съесть, что ли, по бутерброду или попозже? Они с Анной обычно расправляются со своей порцией сразу же, а Фин предпочитает отложить на потом и принимается за еду только в одиннадцать часов, в одиночестве. Это действует на нервы, ну и пошло-поехало: «Смотри-ка, у нее еще есть чем подкрепиться. Давай-давай, наворачивай, а мы полюбуемся». И тому подобные вымученные шуточки. В основном изощряется Анна. Жаль ее, но порой он чувствует, что готов ее побить.
Где-то вдали, на башне, бьют часы. Видел бы кто-нибудь, как он сидит здесь на лестнице, один, в темноте, X. И. Волсма, пенсионер, бывший служащий городской управы. Как он подкрадывается к двери своей старой приятельницы Фин Хелсман, чтобы подсмотреть, ест она там что-нибудь или не ест… Впору бы расхохотаться, да на голодный желудок смех не идет.
Так он и сидел, тупо застыв в тоскливом малодушии. Как сказал тот тип, что стоял перед ним в очереди за комбижиром? «Получше заправиться, а там хоть и помереть». Получше заправиться — будто в поход собрался. Что ж, в последнее время мысль о смерти не пугает, как бывало раньше. Умереть — все равно что сладко уснуть под кучей одеял, и не надо больше вставать и возиться с печкой, которая в один миг поглощает с таким трудом собранное топливо; не надо заботиться о хлебе, которого не хватает, о каше, которую съешь, а через час опять мучит голод… Так стоит ли терпеть эту пытку ради того лишь, чтобы остаться живым свидетелем нашего жалкого существования, которое проклятия и то не заслуживает.
Дверь наверху отворилась, лестница скрипнула под шагами Фин. Но заметила она его, только очутившись совсем рядом.
— Ой… Что такое? Это ты, Хенк? — испуганно воскликнула она. — Что ты тут делаешь?
- Ты ешь там, у себя? — спросил он без всякого интереса.
Долгая пауза. Потом в темноте послышалось смущенное:
— Да.
Молчание.
— Нехорошо так делать, — мягко сказал он, будто увещевая напроказившего ребенка. — Нас ведь все-таки трое.
Ответа не было. Но потом, всхлипывая, она прошептала:
— У меня оставалось немножко пряников.
— А-а, — сказал он равнодушно.
Ее признание не вызвало у него никакого отклика. Даже смешно не было. Он только обнаружил вдруг, что Фин тоже сидит на лестнице тремя ступеньками выше, и подумал, до чего это глупая, должно быть, картина. Но смеяться не было сил.
Внизу скрипнула дверь. Это Анна.
— Хенк, — шепнула она.
— Я здесь, — отозвался он.
— Ну, видел? Что она ест?
— У меня оставались пряники. Но я не должна была их прятать. Это нечестно, — тоненьким голоском покаялась Фин.
— О! — только и сумела вымолвить потрясенная Анна, и в ее голосе муж не услышал ни тени торжества.