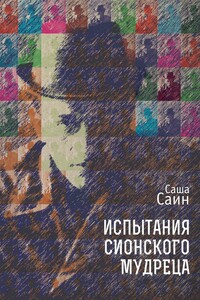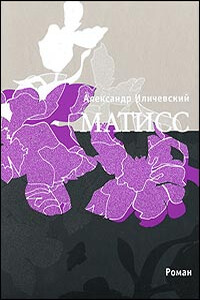Сегодня гады вот что придумали.
Убедившись, что ничего им из меня не выпарить, выдали стопку школьных тетрадей в клетку, четыре карандаша и точилку: Петя — он принес — молча положил на тумбочку.
И понял я, что дело теперь уж точно швах, и почувствовал облегченье. Вместе с этой мыслью пришел призрак праздности, и я с любопытством воззрился на Петю.
Он попрохаживался не глядя, хмыкнул и подался к двери.
Я хотел было вякнуть, но ступор свел мне челюсть.
Замок прицокнул, и понял я, чтo это: они хотят, чтоб я начал писать.
Первым встряло — изорвать бумагу.
Но искус был велик: книг я не видел, как прошлогодний снег — полгода. Появись у меня книги, на все б мне стало наплевать. Дать мне книги — все равно что выпустить на волю.
Письмо же равноценно чтению. Однако оно менее свободно, и гады про то знают: это все равно как гулять на привязи.
По крайней мере, письмо ему, чтению, подражает. Неравноценно оно потому, что оставляет следы, по которым есть шанс пишущего отследить, удержать в прицеле: читающий — охотник, пишущий — беляк, мечущийся по белизне забвения бумажного поля.
Вот и решили сыграть ниже пояса. Ведь знают, гады, что люди как раз и берутся за письмо, когда становится невмоготу читать. А когда книжки вообще недоступны, то и подавно писателями становятся.
Потому они и решили поставить на это, и таким — косвенным — образом, выпустив меня попетлять, побродить на свободе — самим подглядеть: авось приведу их к тому, что вот уж месяцев семь им никак не выкатать еженощными дознаниями.
В общем, не устоял я пред искушением. Тем более — наконец появился шанс повременить с их ночными бенцами.
А ежели придут, то так и скажу: пошли вон, мешаете.
Я осторожно взял карандаш и поводил наискосок по обоям, тщательно заостряя грифель, раскрыл тетрадь и, не задумываясь, надписал:
«Крепость. И вот прошло сначала пять лет, потом еще три, и еще два, до грани 90-х. Мне восемнадцать, я живу.
Сейчас я живу в лете, лето жаркое стоит в Баку. Под его горячими ладонями размягчается асфальт, я чувствую это через подошвы сандалий.
В Баку находится дом моей бабушки, где я гость.
Город похож на театр, скина которого — бухта Каспийского моря.
Дома, как виноградинки фруктовой горы на базарном прилавке, лепятся друг к другу по ярусам чашеобразного склона.
На одном из средних ярусов расползлась по холмам крепость Ичери-Шехер, взявшая в оправу шкатулку дворца Ширваншахов; на самом верхнем темнеет тяжелой зеленью кипарисов парк им. Кирова.
После заката опасно гулять по его аллеям. Особенно юношам-чужакам, не владеющим местным диалектом.
Поэтому, став для безопасности немым, я ускоряю шаг.
И еще ускоряю его — мимо компании, расположившейся на последней скамейке аллеи, у самого выхода из кипарисовых сумерек.
Меня окликают.
Я отвечаю по-английски.
Компания выражает сначала смущение, затем восторг.
И смущение, и восторг — варварские.
Меня обжимает гурьба шпаны, усаживает на щербатую скамейку.
Никаких расспросов, мне протягивают сбитую на пятку гильзу „Ялты“, за ней вьется нитка анаши.
Недоуменно затягиваюсь, пыхаю с кашлем — на меня пялится хохот.
Как цыгане — мелко теребя и ощупывая — трогают мою одежду, я отстраняюсь.
Отстранение мое резко, оно задевает.
Ощерившись, у меня отбирают: папиросу, часы, кошелек, альбом, карандаш, носовой платок и дыханье.
В карманах оказывается ничего. Вывернутые — жалкие, как обмотки на подрезанных щенячьих ушах, я тщательно заправляю их и по-английски требую вернуть мои вещи.
Невнимание. Про себя вижу, как прорезь в печени от скользкой финки постепенно вместе с кровью переливается в глухоту.
Потеря сознания почему-то мной связывается с тишиной, которой оглушительно накрывает гребень прибоя.
Примерный перевод того, что слышу: „Сейчас мы покоцаем этого фраера и наконец-то поужинаем. Вагиф, сгоняй-ка за фуртухой“.
Что такое „фуртуха“, мне не известно.
Я ложусь на землю, вспомнив, что собаки на лежачего не нападают.
Мягкий песок под щекой тепел, я вжимаюсь в него, становлюсь неровностью дорожки. Прокатись по мне сейчас велосипед, мой хребет показался бы его шинам легкой встряской на ухабе.
Лежа, я то представляю, как мои части уже движутся по кишечнику хулиганской злости, то — как они еще жарятся, насажанные на эту самую фуртуху. Я ненавижу загадочную фуртуху, хотя догадываюсь, что она ко мне равнодушна.
Я уверен, меня съедят.
Главарь еще что-то деловито наказывает посыльному Вагифу, но мне уже ясно, что мое лежание им вот-вот станет невмоготу.
Вагиф, выслушав и покорно кивнув, воровато шныряет в глубь парка, пропадая за кустами белой, белым прахом цвета осыпающейся акации.
Мне хочется запеть „Интернационал“.
Меня снова усаживают. Объясняют: среди них есть художник-любитель, сейчас он покажет свою искусность: он срисует мой профиль.
Своей неподвижностью я выражаю презрение: моя неподвижность ждет, когда ей будут возвращены мои вещи.
Они решают, что я позирую.
Я — позер: вместо того чтоб дать деру целым, жду, когда мне вернут то, что мне ценно.
Ценно: не целлюлоза альбомных листов или углерод карандаша, но Облако. Облако впечатления, которое я повстречал, бродя утром по городу. Как след чудесного уличного знакомства справа-налево я черкнул в альбоме московский телефон. Но прежде — навсегда запомнил. Однако допустить осквернения — оставить в руках неприятеля, хотя и в виде шифра, координаты цели было невозможно. Я ждал.