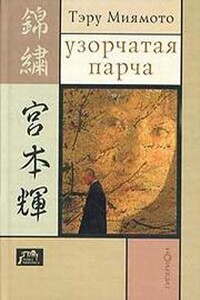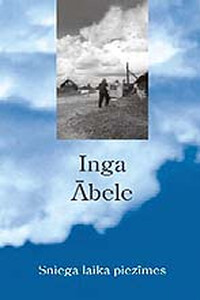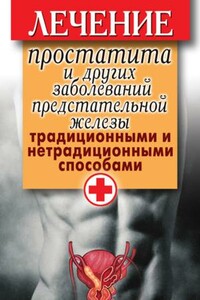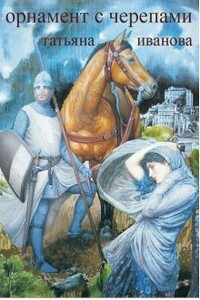Не говори, что нет спасенья,
Что ты в страданьях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
Аполлон Майков
Над этим полным страха строем
Где ложь и грех и суета, —
Мы свой, надзвёздный город строим,
Наш мир под знаменем креста.
Священномученик Владимир Лозина-Лозинский
Милая моя Олечка, я адресую эти записки тебе. Ты иногда спрашивала меня, помню ли я революцию, Великую Октябрьскую революцию. И я всегда отвечала тебе, что была тогда совсем девчонкой, неразумным подростком, почти ничего в памяти не сохранилось. Но на самом деле, я помню. Трудно, невозможно забыть те страшные годы, пусть мне было тогда двенадцать-тринадцать лет. Революционное время впечаталось в мою душу, однако как я могла рассказать тебе хоть что-то, тебе, убеждённой пионерке и комсомолке, гордящейся своей Страной Советов? Тебе, напевающей на кухне: «на пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы»?
Мне грех жаловаться на своих детей, тем более на такую ласковую внучку как ты. Но я никак не могла быть с тобой искренней, поверь, это разрушило бы наши отношения. Уж прости свою неразумную бабушку, я молчала. Я не могла тебе рассказать правду о своей молодости, и только мечтала о том, что я напишу для тебя воспоминания, напишу предельно искренне, ведь ты прочтёшь их только после моей смерти. И ты обязательно прочтёшь, хотя они и будут тебя раздражать. Таинство смерти обязывает.
Я не претендую на то, что мои записки — истина в последней инстанции. Они всего лишь воспоминания обычной женщины, простой свидетельницы того, что творилось на нашей земле в те годы. Я не претендую даже на объективность своих оценок происходящего, не говоря уж о знании сокровенных тайн. Но все же я напишу о том, что видела своими глазами.
Ты стремишься в будущее? Это естественно. Но, не зная правды о прошлом, ты не сможешь найти правильной дороги в будущее. Может быть ты даже улыбнешься своей светлой улыбкой, когда прочтёшь, что я с того самого момента, когда увидела тебя в первый раз на руках у своей дочери, подумала, что оставлю тебе записки о моей молодости. Я ещё раз, на закате дней, в последний раз в своей земной жизни воскрешу в памяти своих друзей тех лет и самого важного для меня человека, того, кто был тогда нашим духовным наставником. Столько лет я никак не решалась начать писать воспоминания о том, что для меня бесконечно дорого. Но вчера ты, открыв дверку моего шкафчика, где стоят иконы, где стоит икона Богоматери из уничтоженной большевиками Гребневской церкви на Лубянской площади, ласково, но свысока посмотрела на свою тёмную бабулю, и я поняла, что время пришло. И этой же ночью мне приснился отец Алексей Мечев, похороненный в 1923-ем году на Лазаревском кладбище, знаменитый в свое время московский священник. Я не верю снам, и тебе не советую. Но с утра неожиданно вспомнилось, как батюшка Алексей мне однажды сказал, что это счастье, встретить на своем пути отца Владимира. Он потому это сказал, что мои знакомые всегда удивлялись, почему моим духовным наставником стал отец Владимир Проферансов из Георгиевской церкви в Лубянском переулке, когда буквально за углом, на Маросейке, служит Московский утешитель, чудотворец, святой Алексей Мечев.
- Держись поближе к отцу Владимиру, все запоминай. Глядишь, придет время, запишешь, что вспомнишь, — отец Алексей немного смущённо улыбнулся в ответ на мое изумление (ведь он ответил на невысказанные вслух сомнения) и благословил меня.
Но давай все же по порядку.
* * *
Мой отец, твой прадедушка, профессор МГУ, с самого детства пытался привить мне способность упорядочивать мысли. Для этого, говорил он, нужно как можно раньше начинать вести дневник, коротко записывая туда основные события дня. Я была очень неупорядоченным ребенком, единственное, чего папа смог от меня добиться, так это того, что я в последний день года, сначала в папином присутствии, а потом и без него записывала коротко основные события минувшего года. Мой краткий дневничок, я вела его на последних, пустых страницах сборника рассказов Чехова, сохранился, и теперь я в какой-то степени могу на него опереться.
Итак, «1917 г. Убили папу…»
Я всегда говорила, что мой отец погиб во время Первой Мировой войны. Теперь напишу точнее. Его застрелили в Москве осенью 1917-го года. Холодной осенью, когда он защищал свой дом от пьяных солдат, пришедших грабить, убивать, насиловать, солдат первой советской «режпублики». Грабежи в городе шли уже несколько месяцев. В домах возникли домовые комитеты, организовавшие самооборону. Ни полиции, ни городовых к тому времени не осталось, а милиция ещё не была создана. Вооружённые купленными на Сухаревке наганами мужчины, из числа жильцов дома, дежурили по очереди и днем и ночью. Тогда в Москве никто не работал, улицы были завалены мусором, фонари не зажигались. Почти никто не сопротивлялся дезертировавшим с фронта, распропагандированным революционерами солдатам, тысячами оседавшими в Москве. Летом они, неопрятные, всегда полупьяные, серые и страшные, спали на вокзалах и в сквериках. Осенью на улице не поспишь… И они начали рушить старый мир. К солдатам-дезертирам примкнули молодые москвичи, считавшие, что они созидают новое будущее.