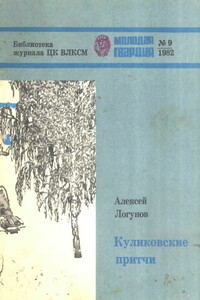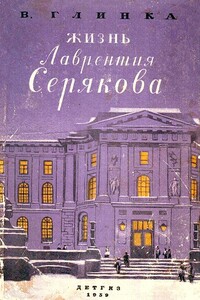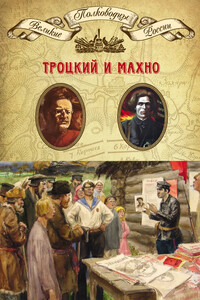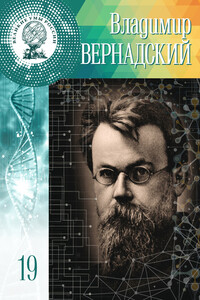1
Про Анну Данилову в управлении Забайкальской гидрометслужбы вспомнили после шести лет ее работы на таежной станции Леприндо. Поразились ее безропотности, неприхотливости, редкой выносливости в работе, и тут же Анну вызвали в областной центр, чтобы предложить ей должность и оклад более высокие.
Огромного роста мужчина ощупывал, все равно как обтесывал, взглядом ее несколько не по-женски крепкую фигуру с сильными загорелыми руками, рассматривал смуглое лицо с влажными и большими, как у дикой ланки, глазами.
— Ах, бедолага, Диана ты северная! — подпуская ласку, рокотал кадровик. — Как же это мы тебя позабыли, позабросили?
Он ходил вокруг Анны, сокрушался и тут же показал ей приказ о назначении начальником районной гидрометслужбы. Только сейчас Анна поняла, что ей грозят крупные неприятности — разительные перемены в устоявшейся жизни. Она растерялась, представив себе кабинет, людей, которые станут ее постоянным окружением, груды канцелярских бумаг, и сказала, в упор глядя на квадратный подбородок кадровика:
— Дайте сюда приказ.
Он пробормотал что-то неясное и протянул выбитый четким жирным шрифтом лист бумаги. Анна тут же порвала его и сказала, что ее вполне устраивает рядовая должность с рядовым окладом. Впрочем, недоговорила о том, что отвыкла от людей за эти годы, от шумного города, конфузилась, когда делали ей прическу, пугалась мужчин в белоснежных рубашках с твердыми воротничками и манжетами, скрепленными сияющими запонками, и привыкнуть к новой жизни, как ей теперь казалось, было труднее, чем отвыкнуть от прежней.
— Хорошо, — сказал кадровик, отпуская Анну, — ступай себе.
И она ушла, с благодарностью оглядываясь на него через плечо. Но, как только шаги Анны стихли в коридоре, кадровик нахмурился и сердито посмотрел на закрытую дверь…
Вскоре после возвращения Анны домой направили из области на озеро Леприндо молодого ихтиолога.
Плахов сначала ехал поездом, потом летел вертолетом. У него было сухое зоркое лицо, длинные руки, перевитые крупными жилами, и сам он тоже был длинен, нескладен и узок, как одноместная кабина в рабочей раздевалке.
За всю свою тридцатилетнюю жизнь Плахов по-настоящему влюблялся только один раз. Любовь эта казалась ему древней — не то в восьмом, не то в девятом классе — и к тому же до смешного наивной. Та, которую он любил, была красива и глуповата. Глупости за собой не замечала, но зато неприкрыто гордилась своей северной, пока еще набирающей цвет и силу красотой. Однажды Плахову пришла в голову жестокая мысль. Он остановил ее в коридоре и нетвердым, глухим голосом, глядя в темный угол, сказал: «Ты напрасно гордишься своей красотой. Она не твоя. Она принадлежит всем, — ну, все равно как цветы на городской площади. Красота дана природой, и здесь нет твоей заслуги. Тебе же принадлежит одна глупость…» — «А ты шустрик!» — сказала она в ответ и закатила ему пощечину. Однако Плахов продолжал ее тайно любить. И, как всякий тайно любящий, тяжело страдал. Дострадался он до того, что написал письмо в молодежную газету, где просил совета, как жить дальше. В письме он доверительно сообщал, что не ест, не пьет, с каждым днем худеет, как тут быть? Письмо предательски напечатали, после чего над ним стали потешаться все: друзья по классу и даже учителя. Плахова задразнили, и он был вынужден перевестись в другую школу…
Он легко возгорался и легко остывал, но этот случай в его тогдашней несовершеннолетней жизни все же наложил определенный и вполне отчетливый отпечаток страха перед публичной исповедью. Впоследствии, уже в институте, а потом и после него, Плахов никогда, даже в самые интимные минуты, не открывался в любви до конца. Сказывалась не то что застарелая обида, а скорее всего заглушенная скупость чувств. При знакомстве и даже разговоре с женщинами он был неловок, застенчив и часто без видимой на то причины краснел.
…После вертолета Плахов пересел в лодку и почти весь световой день плыл по реке, мутной, нездорово вспученной, гибло для моторов засоренной деревьями. Дальше пошли пойменные места с полусонными зарослями ивняка, с низко висящими над водою, пораженными сыростью корявыми сосновыми стволами.
Лодочник высадил Плахова в десятидомной Итаке и тут же, у пирса, развернувшись против течения, скрылся за излучиной. Плахов оглянулся. Увидел здоровущего мужика, одетого в немыслимого цвета брезентовую робу, от которой остро дохнуло рыбой. Мужик с хищно прижатыми к грубо вылепленному черепу круглыми ушами, остервенело бросал в деревянный баркас сети, котомки, какие-то узлы, а рядом стоял хрупкий, по-мальчишески стройный, но уже весь седой человек с выдранным кованым запором в руках и уговаривал мужика, ласково называя его по имени Егорушкой, вернуться в сельский Совет. Он говорил с ним так, как разговаривает терпеливый отец с неразумным, но великовозрастным детиной.
— А под замок все равно не пойду, — рычал осерчавший Егорушка, на лице которого хранился прочный порок — сытая блудливость. — По горло насиделся. А когда эта милиция приедет — хрен ее знает…