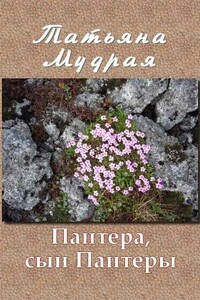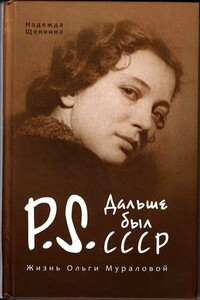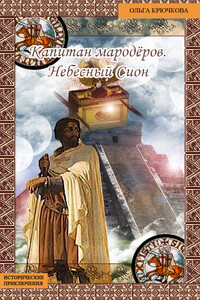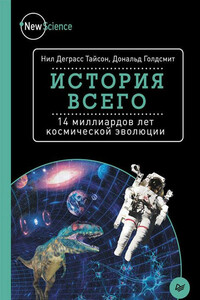В Вологде, в привокзальном ресторане, за столом, покрытым измятой, в пятнах, скатертью, перед скудной закуской, уместившейся на одной тарелке со слишком заметным общепитовским тавром на краю, сидел Галицкий — крупный голубоглазый и добрый мужик с работными, грубыми руками, в косоворотке, застегнутой аккуратненько на все пуговички. Ел он медленно, думая свою какую-то думу, лишь изредка вспоминая про окружавших его людей, — тогда он виновато оглядывался кругом, подбирал торчавшие из-под стола длинные ноги в сапогах, укладывал по-ученически локти на стол, и взгляд его, задумчивый и красивый до этой минуты, как будто враз выцветал, и Галицкий становился похож на всех остальных людей, сидевших за соседними с ним столиками с такими же неопрятными застиранными скатертями.
Но ничто не соединяло этого человека с остальными, и он снова задумывался про что-то свое, и опять выдвигал из-под стола ноги в огромных сапожищах, складывал на широкой груди крупные руки и делался красивым прямо на глазах.
«…И все-таки система датчиков в преобразователе должна быть заменена — она явно не рассчитана на то количество энергии, которое может дать машина, устройства эти улавливают даже не половину, даже не десятую, а может, даже и не сотую ее часть… Надо срочно обдумать и провести замену — иначе может случиться беда: будешь думать одно, а на самом деле будет другое, ты будешь думать, что сидишь с ложкой пороху, а на поверку под тобой целая бочка окажется». И Галицкий начал было прикидывать, каким бы образом провести задуманное им, но тут до его слуха дошли сказанные за соседним столиком слова.
— Россия, что с ней делается? — никак не пойму, — говорил слегка полнеющий человек в возрасте около тридцати, судя по прорезавшейся проплешине на белобрысой макушке, но с какими-то не вязавшимися с его возрастом очень юными, подвижными глазами. — Вот ведь незадача. И не со стороны гляжу — изнутри. Да и как мне еще на нее глядеть, когда я сам из деревни. Ну хотя и не живу сейчас там… — Он заметно смутился этим своим уточнением, но тут же и выправился, набрал утраченную было на мгновение решительность и продолжил с прежним напором. — Нет, решительно не понимаю, кто следит за всем тем, что у нас происходит, и видит ли он, что к чему между людьми на самом низу. Ну вот посудите сами…
И говоривший повернулся к не очень внимательно слушавшему чернявому собеседнику его же приблизительно возраста, с такой же отметиной на макушке, но в противоположность говорившему с отцветшим, погасшим взором, который выдавал в нем как бы обленившиеся желания: казалось, такому человеку только и надо бы, чтоб вкусно покушать да после принятия пищи сладко вздремнуть в уютном месте. В контраст говорившему — белобрысому и голубоглазому, этот был словно тенью его — темноволосый, черноглазый, на пухлых пальцах его торчали кустики черных волос.
— Ну так вот посудите сами, — говоривший метнул взор на откинувшегося на стуле, развалившегося собеседника. — Приезжаю это я на несколько дней, значит, к себе… Я это делаю, знаете, не по обязанности, а по необходимости, — тут он ткнул пальцем себе в грудь, явно в направлении своего беспокойного сердца. — Вы понимаете? — спросил он на всякий случай, на что собеседник и ухом не повел, только набычился и, напирая на сильно выдававшийся у него второй подбородок, глядел на собеседника моргая, словно еще не решив для себя окончательно — слушать не слушать…
— Приезжаю это я, — тем не менее продолжил тот, — иду по пустой деревенской улице, народу — несмотря на то что пора не уборочная, не посевная — никого. Но вот гляжу — у дома, фамилию хозяина позабыл, сидит старушенция. Я к ней. Подсел, сижу рядышком. Посидели это так мы, посидели, она молчит, и я молчу. И сидит между нами мое десятилетнее отсутствие в родных местах. Так втроем, стало быть, и сидим молчком. — Последние слова он проговорил явно волнуясь, даже раздражаясь.
Явившись невольным свидетелем начала этой беседы, Галицкий не подозревал, что разговор в самом скором времени займет его.
— А все ж признали мы друг друга — не вышло ничего у разлуки. Да и как было не признать — вся родня у нас в деревне, какая-нибудь да родня друг дружке, да что в деревне — по всей России, разведи нас, русских, по одним только фамилиям — не один раз перекрестятся, наздоровкаются по-родственному. — Он помолчал, а потом продолжил с тем же запалом:
— И о чем только мы с ней не говорили. И все-то, скажи ты, она помнит: и как несла меня на руках на крестины, и как подсобляла потом матери да отцу, молодым тогда и неопытным, подымать меня, растить. Помнила до таких подробностей, будто никогда ни о чем другом не думала, ничего другого не держала в голове — и в каких штанишках я когда-то там бегал, и кому чего и когда сказал и как кто мне ответил… Вот ведь какая она, деревенская, незадерганная память.
И опять сделалось тихо, и снова тот же неугомонный голос продолжил:
— …И стала тогда бабка Пудьяниха жаловаться мне, ох как жаловаться, — в сердцах произнес говоривший, чуть не прослезившись.
Собеседник его бросил взгляд на сторону, как бы готовый извиниться перед невольными очевидцами человеческой слабости, затем, не обнаружив явных свидетелей разговора (Галицкого он не принял во внимание — мужик), изобразил на лице деланый повышенный интерес, сдвинул брови, покачал головой, как бы отдавая должное волнению говорившего.