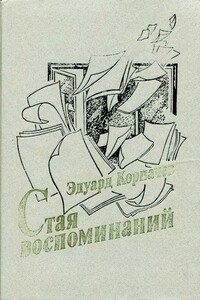Могло показаться, что была погоня за счастьем, хотя при бешеной езде по горным африканским дорогам ближе до беды, но, может быть, это все-таки была погоня за счастьем, за острыми, навсегда остающимися в памяти впечатлениями, которых так жаждешь в двадцать лет. Володя Костебелов, усмехнувшись своим мыслям, все же наддал газу и соскальзывающими руками крепче обхватил разогретую баранку руля, как будто и в самом деле гнался за впечатлениями, а не чаял поскорее добраться до шумного, блистающего зданиями, лаком автомобилей, политым и тут же просыхающим асфальтом, раскинувшегося по морскому побережью большого города Алжира. Он привык к неторопливым, овеянным мучнистой пылью белорусским большакам и проселкам, а потом отвык от них в Минске, потому что стал студентом политехнического института. И когда нарядный океанский теплоход доставил его и друзей на алжирскую землю, в международный студенческий лагерь, пришлось привыкать к стремительным, бешеным скоростям, потому что здесь все водили машины с такой самоуверенной лихостью, что было страшно, хотя и не очень — ведь ни разу не разбился, — следить напряженными глазами за отчаянно бросающейся под колеса грузовика сухой, как брезент, асфальтовой лентой, беречься неожиданных, выстреливающих из-за скалистых поворотов встречных машин и боковым зрением ощущать близость пропасти, ее гибельные тартарары. Он бы и не гнал свою машину так, что всхлипывали борта, если бы ехал один, но всегда в кабине сидел или командир алжирского трудового отряда, или двенадцатилетний кофейный арабчонок Омар, да еще в кузове был кто-нибудь.

И вот сейчас прижимало к нему на поворотах Омара, а наверху ехали еще двое арабских парней, и один из них, с желтым, спеченным лицом, коротко стриженный, точно обгоревший, парень Мурзук, постоянно вызывал в нем досаду своей обычной замкнутостью, хоть говорить им было бы нелегко, имея запас десяти-двадцати слов, но ведь можно многое сказать и взглядом, и улыбкой. Володя наверняка знал, что это Мурзук стукнул по верху кабины, поторапливая ехать, и он не гнал бы свою машину в горах; но раз так, раз недоволен этот замкнутый, непонятный парень, — Володя дал волю испытанному любыми скоростями мотору. И тотчас восторженно сверкнул угольными глазами Омар. Володя перехватил этот взгляд, даже не глядя на мальчонку, точно так же, как видел его курчавую смоляную голову, его высосанную солнцем не синюю и не белую маечку, его нетерпение и желание дружить с русскими ребятами и вместе с ними быстро мчаться вперед, в приморский город Алжир, в новую жизнь, так щедро распахнувшуюся перед ним в это знойное лето, похожее на все прежние двенадцать лет его жизни и все же иное. Да и что Омар, дитя Африки, восторженный, как все мальчишки на свете, — сам Володя, припадая к рулю, страшась сумасшедшей езды и наслаждаясь ею, ощутил себя хозяином горных дорог, асом, который летает как черт. А ведь и вправду стал он за месяц бесстрашным асом, подобно воздушным асам, потому что при движении в горах ты уже не совсем принадлежишь земле, находишься как бы в бреющем полете, и на отчаянных поворотах, когда грузовик приближается к пропасти и пропасть разверзается оголенными склонами коричневых и охристых гор, голова кружится и тело становится не твоим и ничего не весит. Но зато вдвое дороже касание попутчика. Хоть Омар еще мальчишка, да все же его касание словно отключает страх, и Володя любил в эти мгновения мальчика, как брата, пускай даже такими разными братьями они были. А может, и не разными: один темен телом, только лицо чуть посветлее, как абрикосовая косточка, и другой за месяц почернел.
И еще Володя подумал в одно из таких мгновений, когда на поворотах всхлипывали борта и мальчонку кидало ему на плечо, что, как ни трудна эта горная дорога, она хороша тем, что становится дороже человек, сидящий в кабине, и что и ты бесконечно дорог ему не потому, что вместе едете сейчас или можете вдруг прекратить эту скоростную гонку, а потому, что будете еще долго, пока еще живы, ехать, соприкасаясь друг с другом: в воспоминаниях, в снах, в желаниях вернуть опасную дорогу, в молодости и в старости — всегда.
Но вот горы послали прямую снижающуюся ленту дороги. Володя бросил взгляд в ущелье, увидел на дне металлическую жилку ручья, потом переглянулся с Омаром. Оба улыбнулись и продолжали переглядываться, плавно спускаясь на грузовике; и Володя с любовью стал думать об африканском мальчишке, о его жизни, а мальчишка вдруг закричал: «Волода, Воло-да!» — и ладонью показал в кабине, как идет самолет на посадку.
Значит, и ему дорога напомнила снижение в полете, и Володя еще раз улыбнулся, слизнул сухим, затвердевшим языком соль на губах, а цепь воспоминаний уже начала раскручиваться, потому что знакомо было это чуточку чужое, новое, свое, с ударением на последнем слоге имя «Волода, Волода!». И он вновь увидел, как месяц назад съехались в Алжир, в Большую Кабилию, в селение Уадиас русские, югославы, болгары, немцы, французы и как среди алжирских революционеров оказался этот кофейный мальчик с курчавой смоляной головой. Его тотчас выловили и хотели отправить, да некуда: ни матери, ни отца, и не помнил он даже названия родного пепелища. Все же его бы отправили — так слаб он был, так мал, но Омар тогда кинулся к нему, Володе, кинулся именно к нему совершенно случайно и обвил жгутами тонких рук его пояс. Это решило судьбу Омара: Володя Костебелов, Спартак Остроухов и все наши ребята сказали, чтобы мальчик остался в лагере. И он остался, прижился у наших, у русских, а к Володе так привязался, что без него не мог он выехать ни в рейс на грузовике, ни сесть за трактор. И в палатке, где жили они, их легкие раскладушки тоже были рядом.