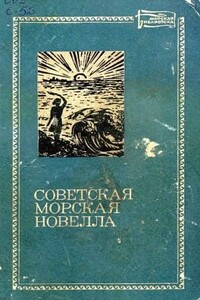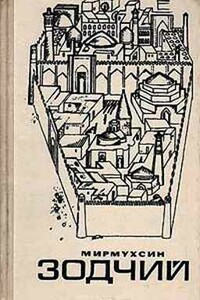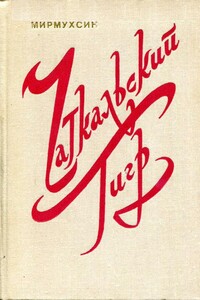Мирхайдара разбудил хриплый шепот соседа — старого шорника, невольного товарища по несчастью:
— Гончар!.. Рассветает.
Мирхайдар сел, взглянул вверх — круглое отверстие было затянуто плотной тьмой. Нет, до рассвета еще далеко. Но старик снова беспокойно забормотал:
— Гончар, слышите?.. Идет Байтеват. Вставайте!
Мирхайдар прислушался — ни звука. Приложил ухо к земляной стене — тишина, никаких шагов. Да и что тут делать, в ночную-то пору, тюремщику, носящему свирепую собачью кличку — «Байтеват». Видать, старик просто бредил. Ну, да! Вот он опять отрывисто, лихорадочно зашептал:
— Глядите, веревка! Осторожней, прольется… Дайте мне отхлебнуть… Пить… Пить…
Уж какую ночь старик своим бредом сбивал с толку Мирхайдара: гончар начинал до рези в глазах всматриваться в темное отверстие наверху, ловить каждый шорох. Но слышно было только, как сам старик во сне скрежетал зубами, причмокивал, словно силясь что-то проглотить, да шелестело тряпье, которое он, ворочаясь, стягивал к себе.
На всякий случай Мирхайдар отодвинул подальше от старого шорника глиняный кувшин, стоявший посередине ямы. Прислонясь спиной к стене, прижавшись ртом к сцепленным кистям рук, уставился в темноту…
Весь мир погружен в сон. И только он не спит, томимый горькими мыслями и несбыточными мечтами. О, будь он птицей — взмахнул бы могучими крыльями и унесся на волю! Да что там птицей — он согласен превратиться в крысу: прорыл бы в земле тайный ход и выбрался наружу. Гончару вспомнилось древнее предание, как по велению царя змей огромная змея, просунув хвост в глубокую яму, куда был брошен Юсуф — Иосиф Прекрасный, вызволила узника из мрачной темницы. «Выходит, змеи-то помилосерднее наших беков!» — усмехнулся про себя Мирхайдар.
До него снова донеслось бормотание старика:
— И Абдунаби завершил свой земной путь… И другие мои друзья. Все, все умрут!.. И коротышка домулла, и гассал[2] Халфа… Все, все!..
Мирхайдар пододвинулся к старику, натянул ему на плечи сползшее ветхое одеяло. Тот ненадолго успокоился, замолк. А потом вновь забредил:
— Пейте, гончар… Ваша очередь. Пейте… Сытость ищет наслаждений, голод — траву. Слава богу, еще день прошел…
Мирхайдар сжал кулаки, плечом уперся в стену. О, обладай он силой богатыря Рустама, разворотил бы эти стены, вырвался на волю, раздобыл девяностопудовую палицу, обрушил бы ее на голову тирана! И со всех узников сбил бы кандалы!
Он взглянул вверх — нет, еще темно. Там, наверху, в зиндане, кто-то погромыхивал кандалами — тоже не спал. Кромешная тьма вокруг… Мертвая тишина. И тоскливый звон кандалов.
Сколько уже месяцев он в этой яме?[3] Все о нем забыли. А не забыли, так забудут. Его сосед, старый шорник, томится здесь уже восемнадцать лет, сделался прозрачным, как привидение, — кожа да кости. Кто о нем помнит? Он для всех давным-давно умер.
Правда, даже он на что-то надеется. На чудо? «Даст бог, придет и наше время», — шепчет он иногда. Все ждет — вот опустится в отверстие веревка, чтобы вытянуть его отсюда. И тогда он займет денег у приятеля — ремесленника из махалли Конкус, и вернется к шорному делу. И каждый день будет есть кашу из маша и риса. Мирхайдар возражал: тоже, еда! Но старик упрямился: что вы понимаете, нет на свете пищи вкусней и полезней, чем каша из маша и риса!
Бедняга!.. Спорит о том, какая еда лучше, а сам унижается перед усачом Байтеватом из-за лишней ложки вонючей бурды, которой их кормят. Мечтает о воле — а сам уже полумертвец, угасающий светильник. И живет одними молитвами. За кого он только не молится! О святых уж и говорить нечего — всех перебрал. Восславил в молитвах ханов и беков, погибших и здравствующих, жертв и убийц. А теперь еще, как услышит от Байтевата о чьей-либо смерти, так принимается молиться за покойного, прося для него у бога места в раю. Попади они все в рай — то-то была бы драка! Шорник даже в честь Байтевата произносил длиннющие молитвы, в надежде, что ему перепадет от тюремщика лишний глоток воды. А Байтевату плевать на его молитвы — зачем ему помирающий старик?
Проклятый тюремщик! Да попадись он в руки Мирхайдару, тот уж вытряс бы из него душу! Но сейчас Мирхайдар бессилен. Он — узник. И уже начал свыкаться со своим бесправным положением.
Поначалу, когда его бросили в эту зловонную яму, ему казалось, что он и дня тут не выдержит. Голод еще можно было терпеть, но от спертого воздуха его мутило, он задыхался. И еще была пытка — блохи. Гончар хотел уже было покончить с собой. Но, видно, крепок духом человек. Вынослив. Прошло время, и Мирхайдар ко всему привык: к голоду, к оскорблениям, к блохам. Он, как поверженная башня, сутками недвижно лежал возле стены и словно кошка мясом — питался запахами подземелья.
Он — узник. Его удел: забвение и гибель.
Правда, пока его навещали и сыновья, и престарелая мать. Они через тюремщика передавали кое-какую еду. Эти посещения терзали его сердце. Мать! Всю жизнь провела она в горькой нужде. И вот одряхлела, а ему нечем ее порадовать, он лишен возможности помогать ей, не может даже принести в дом воды на коромысле, натершем ее старые плечи… Она же пешком одолевает несколько километров со скудной передачей для сына, часами, до обморочной желтой бледности, просиживает у входа в зиндан. И плачет, плачет — засыпая и просыпаясь…
![Молнии в ночи [Авторский сборник]](/storage/book-covers/48/48d6c13b882a7c03ade984015777e851488079a4.jpg)