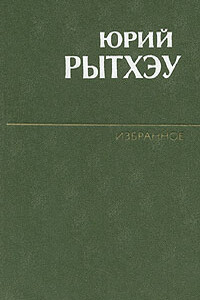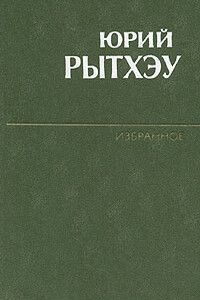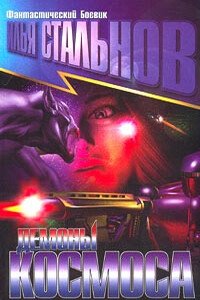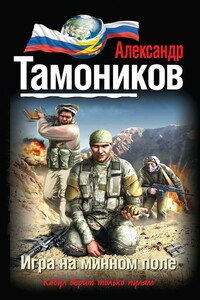Андрей ступил на самолетный трап и на миг остановился, пораженный красотой. Вокруг высились покрытые чистым белым снегом сопки. Они матово отсвечивали, отражая яркое весеннее солнце: снег слегка подтаял, образовав корку. Она и служила зеркалом солнечным лучам.
На обочине посадочной полосы стояла упряжка, и молодой парень в камлейке с откинутым капюшоном пытливо оглядывал спускающихся на землю пассажиров.
В районном центре Андрея предупредили о том, что до стойбища придется добираться на собаках: в эту пору, перед вскрытием рек, пускаться на вездеходе рискованно. "Это прекрасно! — сказал Андрей. — Я так мечтал когда-нибудь проехаться на собачьей упряжке!" Председатель райисполкома, худая энергичная женщина, почти не вынимавшая сигареты изо рта, чуть улыбнулась и сказала: "Ну вот и попробуете".
Андрей Хмелев, выпускник ветеринарного института, приехал на Чукотку в конце прошлого года. Его оставили работать в окружном сельскохозяйственном управлении, где он просидел над бумагами всю долгую зиму, и нынешняя поездка для него, в сущности, была первым знакомством с настоящей тундрой. Надо было обследовать стада Провиденского района перед отелом.
— Я Андрей Хмелев, — представился он каюру, сбежав по трапу.
— Очень приятно, — хмуро ответил парень и выпростал из оленьей рукавицы теплую ладонь с прилипшими к ней белыми шерстинками.
— Едем! — весело сказал Андрей, бросив рюкзак на нарту и усевшись на громко скрипнувшие две неширокие доски-сиденья.
— Сейчас поедем, — спокойно ответил парень, — только сначала встаньте.
Андрей послушно поднялся. Каюр принялся увязывать груз.
— Больше у вас ничего нет?
— Все мое хозяйство в рюкзаке.
Каюр выкрикнул что-то гортанное, выдернул из снега плотно пригнанную палку с железным наконечником, и собаки, отряхиваясь, начали подниматься из уютно примятых снежных ямок. Нарта двинулась вперед, в гору, и Андрей бросился вслед, закричав:
— Послушайте! Подождите! Вы меня забыли!
— Бегите за мной, — бросил на ходу парень, держась за дугу посередине нарты.
Андрей потрусил вперед, проваливаясь по колено в снег, ругаясь про себя. Он совсем иначе представлял себе езду на собаках: снежный вихрь клубится за мчащейся нартой, звонко лают собаки, выбрасывая из-под лап комья снега. Сколько раз он видел такое в кино, по телевидению… А тут нарта едва ползла по косогору, собаки, вытянув хвосты и высунув розовые языки, медленно перебирали лапами, поминутно оглядываясь на каюра и на Андрея злыми, ненавидящими глазами.
Андрей чувствовал, что задыхается: давненько ему не приходилось так бегать. Но не хотелось показывать свою слабость этому неприветливому каюру. Ему-то что, он привычный, да еще держится за дугу.
Андрей собрал силы, догнал нарту и вцепился обеими руками в дугу. Сразу стало легче. Каюр покосился на Андрея и улыбнулся. Улыбка у него была добрая, чуть застенчивая.
— Как мне тебя называть?
— Оттой — по-чукотски, а по-русски — Андрей.
— Тезки, значит, мы с тобой.
— Выходит, так.
— Я тебя буду называть Оттой, можно?
— Почему нет? В тундре все меня так зовут.
Оттой внимательнее поглядел на приезжего. Чуть постарше его, а уже окончил институт. А вот Оттой не попал в прошлый раз, не прошел по конкурсу. Не захотел воспользоваться льготами для северян, решил сдавать, как все, в Дальневосточный государственный университет. В этом году Оттой собирался делать вторую попытку, упрямо отказавшись и на этот раз от внеконкурсного поступления. Старший брат, пастух оленеводческой бригады, у которого Оттой зимовал, предрекал ему новый провал. Ну и пусть! Если надо — Оттой пойдет и в третий раз сдавать, и в четвертый! Всю долгую зиму он читал, готовился к экзамену по литературе. И не жалел об этом. Он понял, что, пренебрегая на школьных занятиях уроками литературы и предпочитая физику и математику, он прошел мимо волшебной горы, не заметив ее, не оглянувшись на нее… И теперь он был по-настоящему потрясен, читая заново и Пушкина, и Лермонтова, и Тургенева, и Толстого, и Чехова, и Горького… Видимо, в школе у них была просто никудышная учительница по литературе, которая только и умела рассказать, кого и с какой силой изобличил в своем произведении изучаемый писатель. А ведь кроме обличения было и другое — изображение внутренней красоты человека, того, что не видно снаружи, неуловимо даже в разговоре, но оно и есть самое главное — это прекрасное, трепетное, общее для всех людей.
Нарта поднялась на перевал. Собаки почти выбились из сил, да и люди тоже. Надо передохнуть. Оттой тихо произнес:
— Гэ-э-э-э! — и собаки тут же остановились и залегли.
— Привал, — сказал Оттой.
Андрей глубоко вздохнул и сел на нарту. Сердце бешено колотилось, и парню казалось, что стук его слышен далеко вокруг.
— Устал с непривычки, — виновато произнес Андрей.
— Я тоже устал, — признался Оттой, садясь рядом с Андреем. Движением плеч он передвинул висевший на спине малахай на грудь и меховой оторочкой вытер вспотевшее лицо.
Андрей огляделся. С высоты открывался широкий вид на долины, еще полные снега. Но уже кое-где обнажился синий лед, под которым чувствовалась готовая вырваться на волю вешняя вода. Синева неба отражалась в снежных сопках, густо ложилась на затененные склоны. Прозрачный воздух открывал дальний хребет, словно нарисованный неумелым художником на стыке неба и земли. Все кругом было наполнено величайшим спокойствием, возвышающим душу человека.