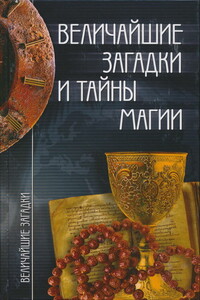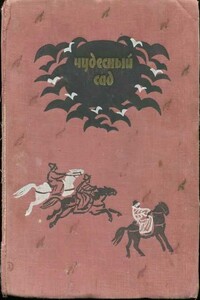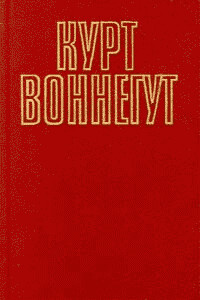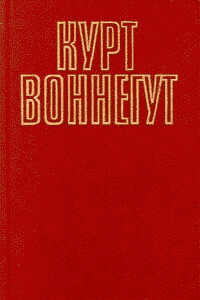Утро. Половина восьмого. С лязганьем и скрежетом заляпанные грязью машины раздирали холм позади ресторана, глыбы земли тут же увозили на самосвалах. В ресторане дребезжала посуда в шкафах, тряслись столы, и очень добрый толстый человек, у которого в голове непрестанно звучала музыка, сидел, уставившись на дрожащие желтки своей утренней глазуньи. Жена его уехала навещать родственников. Он остался сам по себе.
Толстого добряка звали Джордж М. Гельмгольд, ему было сорок лет, он возглавлял музыкальную кафедру в средней школе города Линкольна и дирижировал оркестром. Жизнь его баловала. Год за годом он лелеял одну и ту же великую мечту. Он мечтал дирижировать лучшим оркестром в мире. И каждый год его мечта становилась явью.
Она исполнялась потому, что Гельмгольц свято верил: его мечта — самая прекрасная на свете. Столкнувшись с этой непоколебимой уверенностью, члены клуба «Кивани», «Ротари» и «Львы» выкладывали на форму оркестрантов вдвое больше, чем стоили их собственные выходные костюмы; школьный совет разрешал разорительные расходы на дорогие инструменты, а юнцы готовы были играть ради Гельмгольца на разрыв сердца.
Все шло благополучно в жизни Гельмгольца, кроме денежных дел. Он был так заворожен своей дивной мечтой, что в вопросах купли-продажи оказывался хуже младенца. Десять лет назад он продал холм за рестораном Берту Квинну, хозяину ресторана, за тысячу долларов. Теперь всем, в том числе и самому Гельмгольцу, стало ясно, что Гельмгольца облапошили.
Квинн подсел к столику дирижера. Это был одинокий, маленький, черный и унылый человек. Далеко не все у него было в порядке. Он не мог спать, не мог оторваться от работы, и он не умел по-хорошему улыбаться. У него было только два настроения: либо он всех подозревал и плакался на свою жизнь, либо начиная задирать нос и хвалиться напропалую. Первое настроение означало, что он теряет деньги. Второе означало, что он деньги делает.
Когда Квинн подсел к Гельмгольцу, он как раз лопался от самодовольства. Он со свистом посасывал зубочистку и разглагольствовал об остроте зрения — своего собственного зрения.
— Интересно, сколько глаз смотрели на этот холм до меня? — сказал Квинн. — Сотни и тыщи, на что угодно поспорю, — а кто видел то, что я углядел? Сколько тыщ глаз?
— Да уж мои-то, по крайней мере… — сказал Гельмгольц. Ему холм напоминал только одышку, когда приходилось карабкаться вверх, бесплатную смородину и налоги на землю. И еще там можно было устраивать пикники для всего оркестра,
— Вы получили холм в наследство от своего папаши и не чаяли, как от него избавиться, — сказал Квинн. — Тут-то вы и решили спихнуть его на меня.
— Я не собирался его на вас спихивать, — запротестовал Гельмгольц. — Бог свидетель — цена была более чем скромная.
— Это вы теперь говорите, — игриво заметил Квинн. — Теперь-то вы можете так говорить, Гельмгольц. Вы уже сообразили, что торговым кварталам понадобится место. Теперь и вы увидели то, что я сразу углядел.
— Да, — сказал Гельмгольц. — Поздно, слишком поздно. — Он осмотрелся, ища предлог, чтобы переменить тему, и увидел мальчишку лет пятнадцати, который медленно продвигался по проходу между столиками, протирая пол мокрой тряпкой, накрученной на щетку.
Ростом мальчишка был невелик, но мышцы у него на руках были крепкие, узловатые. Детство еще медлило у него на лице, но когда он остановился передохнуть, рука его машинально потянулась вверх, стараясь нащупать пробивающиеся усики и бачки. Работал он как робот, ритмично, механически, однако очень старался не забрызгать носки своих черных сапог.
— И что же я сделал, когда завладел холмом? — сказал Квинн. — Я его срыл начисто — и тут такое началось, будто кто-то плотину прорвал. Вдруг всем приспичило строить магазины как раз на месте холма.
— Угу, — сказал Гельмгольц. Он ласково улыбнулся мальчишке. Тот смотрел на него без всякого выражения, как на пустое место.
— У каждого свое, — сказал Квинн. — У вас вот — музыка, а у меня — глаз. — И он ухмыльнулся: обоим было понятно, к кому денежки текут. — Думать надо крупно! — сказал Квинн. — Мечтать крупно! Вот где нужен глаз. Раскрывай глаза пошире, чем другие-прочие.
— Послушайте, — сказал Гельмгольц. — Я этого мальчугана все время вижу в школе, а как его зовут, не знаю. Квинн язвительно захохотал.
— Билли-пират? Рудольф Валентино? Неуловимый мститель? Флэш Гордон? — Он крикнул мальчишке: — Эй, Джим! Пойди-ка сюда на минутку.
Гельмгольц с ужасом заметил, что глаза у мальчишки равнодушные и холодные, как у устрицы.
— Сынок сестриного мужа, от первой жены, — сказал Квинн. — Зовут его Джим Доннини, и он из южного Чикаго, геройский парень.
Пальцы Джима Доннини судорожно сжали ручку щетки.
— Здравствуй, — сказал Гельмгольц.
— Привет, — едва проронил Джим.
— Теперь вот живет у меня, — сказал Квинн. — Теперь это мое диеятко.
— Хочешь, я подвезу тебя в школу, Джим?
— А как же, обязательно подвезите, — сказал Квинн. — Посмотрим, что у вас получится. Со мной он разговаривать не желает.
Он повернулся к Джиму.
— Ступай, детка, умойся и побрейся. Джим зашагал прочь, как робот.
— А где же его родители?