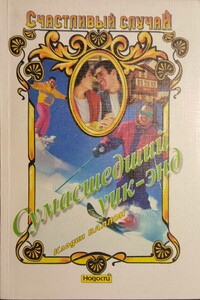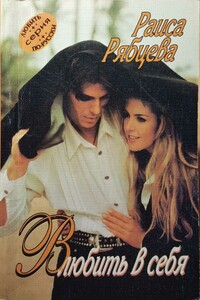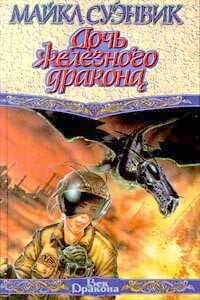Стивен Бакстер>{1}
ЯБЛОКИ ТЬЮРИНГА
(Пер. Андрея Новикова)
Неподалеку от центра обратной стороны Луны есть аккуратный, круглый, с четкими краями кратер под названием Дедал. Люди не знали о его существовании до середины двадцатого века. Это самый удаленный от Земли кусочек лунной поверхности — и самый спокойный.
Именно поэтому сюда прилетели команды астронавтов из Европы, Америки, России и Китая. Они разгладили дно кратера диаметром девяносто километров, выложили эту природную тарелку листами металлической сетки и подвесили на проволочных растяжках раструбы принимающей и передающей систем. И вот вам в результате радиотелескоп, самый мощный из построенных на тот момент супер-«Аресибо», по сравнению с которым его прототип в Пуэрто-Рико покажется карликом. Перед отлетом астронавты назвали телескоп «Кларк».
Сейчас от телескопа остались только развалины, а почти вся поверхность Дедала покрыта стеклом — это лунная пыль, расплавленная многочисленными ядерными взрывами. Но если вы посмотрите на кратер с низкой окололунной орбиты, то увидите точечку света — упавшую на Луну звездочку. Когда-нибудь Луны не станет, но эта точечка останется, безмолвно вращаясь вокруг Земли как воспоминание о Луне. А в еще более далеком будущем, когда Земли тоже не станет, когда выгорят звезды, а с небес исчезнут галактики, эта точечка все еще будет светиться.
Мой брат Уилсон никогда не покидал Землю. Фактически, он редко уезжал даже из Англии. Он похоронен — то, что от него осталось, — рядом с нашим отцом, на кладбище возле Милтон Кейнз. Но он сделал эту точечку света на Луне, которая останется последним наследием всего человечества.
Вот и говорите после этого о соперничестве братьев.
2020
Впервые «Кларк» встал между нами на похоронах отца, еще до того, как Уилсон начал свои исследования по программе SETI — поиска внеземной разумной жизни.
На похоронах в старой церкви на окраине Милтон Кейнз собралась немалая компания родственников. Мы с Уилсоном были у отца единственными детьми, но кроме его старых друзей приехали и обе наших тетушки с целой толпой кузенов примерно нашего возраста, от двадцати пяти до тридцати пяти, а те привезли неплохой урожай своих детишек-цветочков.
Не знаю, могу ли я утверждать, что в Милтон Кейнз хорошо жить. Но точно могу сказать — это плохое место, чтобы умереть. Сам город — это памятник планировке, бетонная сетка улиц с очень английскими названиями типа «Летняя», по которым теперь бегают вагоны новенькой монорельсовой дороги. Он настолько чистый, что превращает смерть в социальное оскорбление — это примерно как пукнуть в универмаге. Может быть, нам нужно быть похороненными в земле, где уже лежат чьи-то кости.
Отец вспоминал, как до Второй мировой войны все эти места были сплошь деревни и фермы. Он остался здесь даже после того, как наша мать умерла за двадцать лет до него, но нынешняя архитектура погубила все его воспоминания. Во время прощания я рассказал об этих воспоминаниях — в частности, о том, как во время войны суровый ополченец-охранник поймал его за оградой располагавшегося неподалеку Блетчли-парка, где он воровал яблоки, пока Алан Тьюринг и другие гении корпели в секретном здании над взламыванием немецких кодов.
— Отец рассказывал, что потом часто гадал, не подхватил ли он математическую инфекцию от тех яблок Тьюринга, — сказал я в заключение, — потому что, как он любил повторять, он точно знает, что мозги Уилсону достались не от него.
— И твои мозги тоже, — сказал Уилсон, когда потом вывел меня из церкви для разговора. Всю службу он промолчал — произносить речи было не в его стиле. — Ты должен был упомянуть и это. Я в семье не единственный математический уродец.
Это был трудный момент. Нас с женой только что познакомили с Ханной, двухлетней дочуркой моего кузена. Она родилась глухой, и мы, взрослые в черных костюмах и платьях, пытались с ней общаться, неуклюже копируя подсмотренные у родителей Ханны знаки языка жестов. А Уилсон просто растолкал эту толпу, чтобы добраться до меня, едва взглянув на улыбающуюся малышку, которая стала центром внимания. Я позволил себя вывести, чтобы избежать какой-нибудь грубости с его стороны.
Ему тогда исполнилось тридцать, на год больше, чем мне. Он был выше, худее и более угловатый. Другие говорили, что у нас больше сходства, чем мне хотелось бы верить. На похороны он никого с собой не привез, и это стало для меня облегчением. Его партнерами могли оказаться мужчина или женщина, их отношения обычно были деструктивными, и любые его спутники напоминали вошедшую в комнату неразорвавшуюся бомбу.
— Ты уж извини, если я что-то рассказал неправильно, — с ехидцей ответил я.
— Отец и его воспоминания, все эти истории, что он рассказывал снова и снова. Короче, чтобы я больше не слышал про эти яблоки Тьюринга!
Его слова меня задели:
— Мы-то все равно будем помнить. Пожалуй. Когда-нибудь я расскажу эту историю Эдди и Сэму. — Это мои сынишки.
— Они не станут слушать. Оно им надо? Отец забудется. Все забывается. Мертвые становятся мертвее. — И это он говорил о своем отце, которого мы только что похоронили. — Слушай, ты уже слышал, что на «Кларке» начаты приемочные испытания? — И прямо во дворе церкви он достал из внутреннего кармана пиджака наладонник и вывел на экран технические данные телескопа. — Ты, конечно, понимаешь, почему настолько важно, что он расположен на обратной стороне Луны? — Так, вот уже в миллионный раз в моей жизни он устраивает младшему брату блиц-экзамен, и при этом смотрит на меня так, словно я катастрофически тупой.