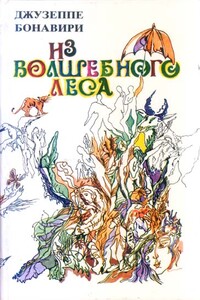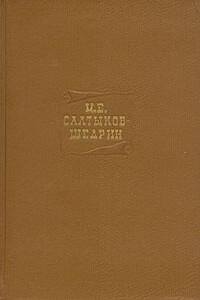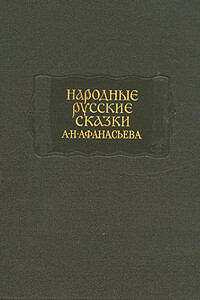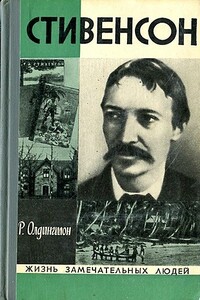Леонард Краули быстро шел по Пикадилли, направляясь в свой клуб, и настроение у него было превосходное; он даже спрашивал себя, откуда это берутся люди, недовольные жизнью. Такой оптимизм, которому мог бы позавидовать сам Панглосс,[1] объяснялся не только тем, что новый костюм сидел на нем безупречно, а июньское утро было мягким и теплым, но и тем, что жизнь вообще была к Краули в высшей степени благосклонна.
Его размышления были неожиданно прерваны – чья-то рука опустилась ему на плечо, и голос, показавшийся ему незнакомым, произнес:
– Привет, Краули! Куда это ты так бодро шагаешь?
Краули остановился и удивленно посмотрел на встречного. Перед ним стоял, опираясь на палку, худой, пожалуй даже изможденный человек в потрепанной форме армейского капитана. На левой руке у него синела госпитальная повязка.
– А, Хэстингс, привет! Черт возьми, как ты изменился! Сразу и не узнать!
– В последний раз мы как будто встретились под Ипром, в шестнадцатом, – ты шел на перевязочный пункт,
– Верно. Как я рад тебя видеть! Пойдем со мной в клуб, выпьем.
Краули пришлось сбавить шаг, чтобы сильно хромавший Хэстингс мог за ним поспевать.
– Ну, а сейчас ты что поделываешь? – спросил Хэстингс, усаживаясь и выпрямляя обеими руками раненую ногу.
– Видишь ли, – с важностью сказал Краули, – я получил очень хорошее место в Сити у сэра Уильяма Чэндлера. Это крупный финансист, ты, конечно, слышал о нем. Я недавно обручился с его дочерью.
Не так уж плохо для человека, который ушел в армию Мелким банковским клерком; достойная награда за умение ловко использовать удобный случай!
– Клянусь богом, старина, тебе везет! Поздравляю, вдвойне поздравляю!
– А ты чем занимаешься?
– Пытаюсь найти работу. Пока еще я в отпуске после лечения, но за два месяца единственное, что мне предложили, – это временно работать клерком в Уайтхолле, три фунта десять шиллингов в неделю.
Краули поспешно переменил разговор. Покровительственным тоном он предложил Хэстингсу дорогую турецкую сигарету. С удивлением Краули увидел, что рука Хэстингса, держащая спичку, дрожит едва заметной, но беспрестанной дрожью. И вид у бедняги такой измученный, постаревший. Ему можно было дать все тридцать пять, если не больше, а ведь на самом деле бедняге, кажется, нет и двадцати четырех.
– Расскажи-ка, что там у нас было в батальоне, когда я ушел на перевязочный, и как тебя ранило.
– Мне повезло, даже слишком повезло. Не уцелей я тогда каким-то чудом, не был бы сейчас такой развалиной. Уж лучше совсем подохнуть, если сразу не отделаешься легкой раной да не уедешь домой.
– Ну, зачем ты так говоришь. Я…
– Подумаешь, дружище, какая важность! Тут вся Европа чуть не рухнула, как старый дом, что ж с того, если при этом один из бесчисленных кирпичиков треснул или раскололся? Для меня все кончено, но ведь и для других тоже, для сотен тысяч людей, куда более достойных, чем я. Надеюсь, пенсии по инвалидности мне хватит, чтобы кое-как дотянуть до отбоя. А жениться я уже никогда не смогу.
– Это еще почему?
– Я теперь навсегда такой, каким прикидывался мистер Хорнер, помнишь, у Уичерли?[2]
– Мистер Хорнер? У Уичерли?
– Ах да, я и забыл, ты ведь не любитель книг. Попросту говоря, ранение навеки превратило меня в евнуха.
– Боже милосердный! Мне ужасно…
– Да ладно, чего там. Так ты спрашивал про наш батальон. Подожди, дай припомнить. Нас после Ипра перебросили на Сомму – мы там здорово влипли. Потери были тяжелые. Там-то и погиб Рэймонд. Помнишь Рэймонда, он у нас ротой командовал?
– Рэймонда? Высокий такой, черный, немного шепелявил?
– Нет, это ты про Хокстона. Из третьей роты. Его убили под Аррасом. А Рэймонд был блондин, замечательный парень, один из лучших моих друзей. Ну да ладно, неважно. После Соммы несколько месяцев было сносно, только зимой стоял зверский холод – мы чуть все не перемерзли. Затем мы двинулись в Аррас – там у нас убили полковника.
– Эшли?
– Нет, Эшли командовал полком в Англии. Другого. Из Арраса отправили нас на север и на место мы прибыли как раз к тридцать первому июля. Под Пашенделем был такой кошмар – пожалуй, за всю войну я ничего страшнее не видел. В марте восемнадцатого года мы были в составе второй армии, в стороне от самого пекла, а потом – в четвертой, когда боши наступали под Кеммелем. Нам в тот год везло. Но, откровенно говоря, я здорово устал – больше двух лет на фронте, сам понимаешь.
– Еще бы, конечно. Я…
– Знаешь, под конец на войне все очень переменилось. Ты-то был тогда там?
– Нет, я… Я был начальником по строевой части в учебном батальоне.
– Так вот, с шестнадцатого по восемнадцатый год стало гораздо больше газов, танков и артиллерии. Но когда бошей погнали от линии Гинденбурга, началась такая бойня, что поначалу все мы просто растерялись.
– И тебя ни разу не ранило за все это время?
– Да нет, я бы этого не сказал, но ведь чуть-чуть не считается. Сам знаешь: продырявит пулей. рукав, осколком – вещевой мешок, шарахнет по каске – чуть не ранит, да мимо. Слабое отравление газом, легкая контузия от снаряда – но ничего серьезного.
– Значит, тебя ранило под конец?
– Да, в последнюю неделю войны.
– Вот невезенье! Как же это случилось?