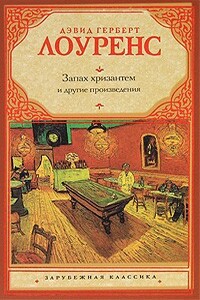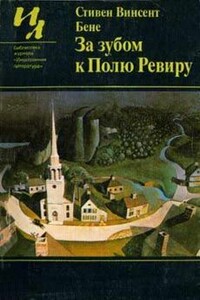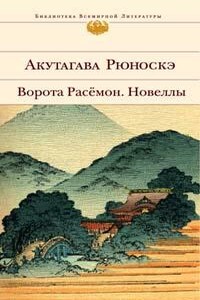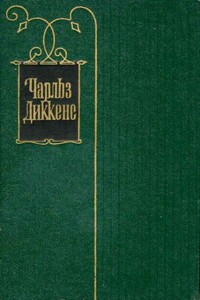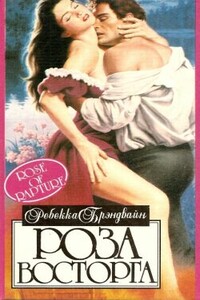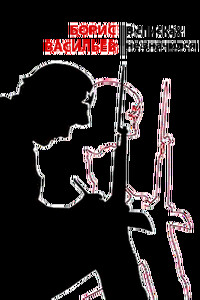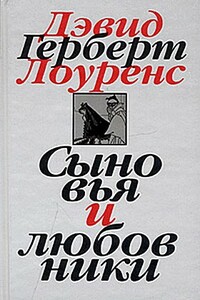Учительница вышла из ворот школы и вместо того, чтобы пойти, как всегда, налево, повернула направо. Увидев ее, женщины, спешившие домой приготовить мужьям на скорую руку обед — было без пяти четыре, — остановились и стали смотреть ей вслед, потом переглянулись с усмешкой.
Удаляющаяся учительница и впрямь выглядела несуразно: маленькая, худенькая, в черной соломенной шляпке, в вылинявшем черном кашемировом платье с широкой юбкой. Смешно было и то, что такая пигалица в полунищенском наряде выступает столь размеренно и неторопливо. Хильде Роуботем не было и тридцати лет, стало быть, не возраст сдерживал ее движения — у нее было больное сердце. Вскинув изнуренное болезнью, но все же миловидное личико и глядя прямо перед собой, молодая женщина проплыла по рыночной площади, похожая на черного лебедя в облезлом траурном оперении.
Она зашла в булочную Берримена. Здесь были хлеб и печенье, мешки с мукой и овсяной крупой, окорока, копченая грудинка, сало, колбасы. Пахло в лавке приятно. Хильда Роуботем остановилась у прилавка и стала ждать, нервно постукивая пальцами по лежащему на нем большому ножу и разглядывая высокие сверкающие медью весы. Наконец из комнат сверху спустился мужчина с угрюмым лицом и рыжеватыми баками.
— Чего угодно? — спросил он, не извинившись, что заставил ее ждать.
— Пожалуйста, на шесть пенсов печенья и пирожных разного сорта, и непременно положите миндальных, — проговорила она страшно быстро и нервно. Губы ее дрожали, как листья на ветру, а слова теснили друг дружку и рвались наружу, точно сбившиеся у ворот овцы.
— Миндальных не имеем, — хмуро ответил хозяин. Видно, он разобрал только это слово — миндальные. И теперь стоял и ждал.
— Какая жалость, мистер Берримен, не повезло мне. Я так люблю миндальные пирожные, но редко позволяю себе такое удовольствие. Утомительное это занятие — баловать себя, верно? Уж лучше баловать других, не так накладно получается. — Она с нервным, отрывистым смешком подняла руку к лицу.
— Так что прикажете? — спросил хозяин, не отозвавшись на ее слова хотя бы подобием улыбки. Видно, он ничего не понял и потому еще больше насупился.
— Все равно, дайте то, что есть, — ответила учительница и слабо вспыхнула.
Хозяин медленно двигался за прилавком, беря с подносов пирожные и опуская их в бумажный пакет.
— Как сестрица изволит поживать? — спросил он, глядя на свой совок, точно к нему и обращался.
— Которая? — вскинулась учительница.
— Младшая, — не без ехидства проговорил сутулый бледный хозяин.
— А, Эмма! Очень хорошо, спасибо! — Лицо учительницы покрылось красными пятнами, но говорила она колко, с насмешливым вызовом. Хозяин что-то буркнул, подал ей пакет и, даже не сказав «всего доброго», уставился ей в спину.
Ей предстояло пройти своим медленным шагом всю главную улицу из конца в конец — целых полмили крестных мук. У нее горела шея от стыда, но она несла свой белый пакет с видом совершенного безразличия. Когда наконец миновала последний дом, она слегка ссутулилась. Перед ней открылась просторная долина, посреди возвышались шахтные строения, клубился белый дым, стучал подъемник, поднимая рабочих на поверхность; лес вдали был подернут мглой сумерек. Из дымки на востоке вставала полная, наливающаяся розовым светом луна — казалось, это низко над землей летит фламинго. Картина была прекрасна, и горечь Хильды и печаль смягчились, сгладились.
Вот и поле осталось позади, она подошла к дому. Дом был новый, построенный добротно и с размахом, как строят на свои кровные сбережения старые шахтеры. В небольшой кухне сидела женщина с темным, смуглым лицом, на руках у нее был грудной ребенок в длинной белой рубашечке; возле стола стояла молодая женщина с грубыми, чувственными чертами и мазала маслом хлеб. Вид у нее был робкий, приниженный, он не вязался с ее обликом, даже почему-то вызывал досаду. Она не обернулась, когда вошла сестра. Хильда положила пакет с печеньем и пирожными и вышла из кухни, не сказав ни слова ни Эмме, ни ребенку, ни миссис Карлин, которая пришла после обеда помочь им.
Почти в ту же минуту в дверях появился отец с полным совком угля, который он нес со двора. Был он вы сокий, кряжистый, дряхлый. Переступив порог, он схватился свободной рукой за ручку, чтобы не упасть, но, поворачиваясь к камину, потерял равновесие и едва устоял на ногах. Потом начал осторожно кидать уголь в огонь. Один кусок выскользнул и рассыпался на белой каменной плите перед камином. Эмма Роуботем оглянулась и грубо, злобно закричала:
— Что ты делаешь! — Потом, сдержав себя, сказала спокойнее: — Ладно, я сама замету, не трогай, а то еще свалишься головой в огонь.
Но отец все же нагнулся и стал собирать рассыпавшиеся крошки, приговаривая непослушным, заплетающимся языком:
— Вот сволочь, скользкий, будто рыба, попробуй удержи в руках.
Его снова качнуло вперед. Темноликая соседка вскрикнула: чтобы удержаться, он схватился рукой за горячую плиту. Эмма кинулась к отцу и оттащила от огня.
— Ведь говорила я тебе, говорила! — снова злобно закричала она. — Обжегся?
Она вцепилась в старика и затолкала в кресло, где он обычно сидел.