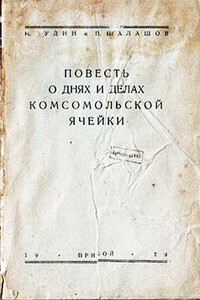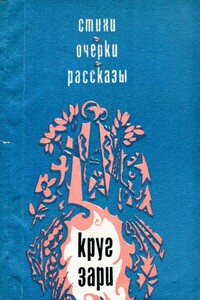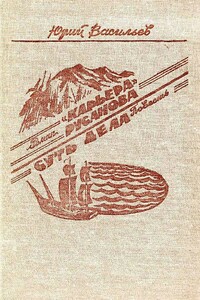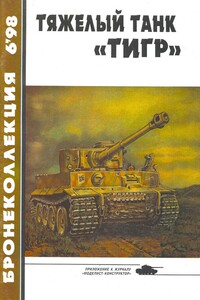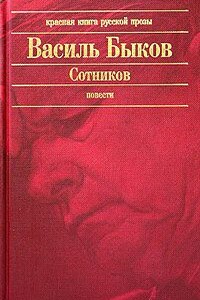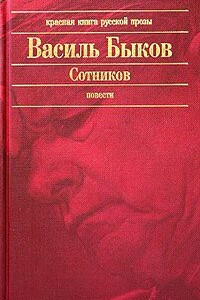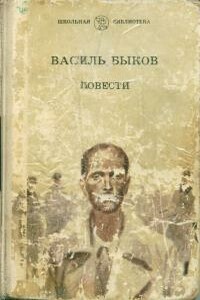Через широкое ржаное поле по пыльной дороге-большаку медленно катилась одинокая повозка с тремя седоками. Поодаль на красивом вороном коне ехал всадник, изредка покрикивая на сидевших в повозке. Те, похоже, не откликались. Молодой полицай в черной немецкой пилотке, свесив ноги, сидел в передке телеги, слегка дергал вожжи, подгоняя рыжую, взмокшую от пота лошадку. Девушка Зина с почерневшим от горя лицом мало что замечала вокруг. Видела только искаженное гримасой боли лицо раненого, лежавшего на боку рядом с ней. Повозка на неровной дороге то и дело вздрагивала, вынуждая его, напрягаясь, сжимать обветренные губы.
— Больно, Федя? — тихо, почти беззвучно спрашивала девушка, и раненый в ответ лишь молча кивал головой.
Утром, когда Зина перевязывала ему ногу, Федор старался не смотреть на рану, — стиснув зубы, терпел. Он сразу понял, что дело его дрянь — голень раздроблена, ему уже не подняться. Зина торопливо обернула ногу окровавленной, вытянутой из сапога портянкой, но про рану ничего не сказала. Дрожала, словно в ознобе, и раненый лишь растерянно цедил сквозь зубы: ничего, ничего… Конечно, чтобы успокоить ее, потому что самого уже ничто не могло успокоить. Мало того что нога, так еще и плен. Поодаль, у ограды, с направленной на них винтовкой стоял полицай; другой на телеге въезжал за ними на гумно.
Когда дорога пошла вниз с пригорка и лошадь побежала трусцой, боль стала и вовсе невыносимой. Так и подмывало закричать, выругаться, но Федор молчал, ясно сознавая, что кричать поздно, следовало раньше думать. Сзади за повозкой припускал рысью старший полицай — плечистый, командирского вида мужчина в кирзовых сапогах. Тоже, наверно, из военных, подумал Федор. Не успели застрелить, а сапоги его этот уже присвоил…
Солнце в безоблачном небе к полудню безжалостно палило склоненные плечи раненого, его стриженую голову без шапки. Соленый горячий пот стекал по загорелым щекам, под мышками и на груди взмокла гимнастерка. Руки были туго схвачены сзади ременной супонью.
Зина маленькими шершавыми ладонями вытирала его мокрый лоб — ей руки пока еще не связали.
— Скоро приедем? — спросил раненый. Девушка не ответила. Будучи неместной, она также не знала, как далеко местечко, куда их везли. Окликнула парня-полицая, с виду вряд ли старше ее— бледнолицего, с худой длинной шеей, покрытой сзади светлым пушком:
— Ты! Местечко далеко?
— Близко, — не оборачиваясь, буркнул полицай.
Где-то над ржаным полем слышалась беззаботная песня жаворонка, Зина взглянула вверх, но поблизости ничего не увидела. Только вспомнила, как вчера по дороге из пущи их также долго провожал жаворонок. Тогда это показалось ей добрым знаком— к удаче. Оказалось — к несчастью.
Какое-то время спустя на склоне пригорка их обогнали две громоздкие немецкие машины с брезентовыми кузовами. В кабине первой машины сидели три немца в военной форме. Конный полицай услужливо козырнул им, лихо бросив два пальца к черной пилотке. Когда повозка выкатилась из тучи поднятой машинами пыли, Федор рассеянно оглянулся — нет, партизан здесь не было. Да и откуда им здесь взяться? Их отряд теперь в Кривулевском лесу, вчера они оставили его, направляясь по вызову штаба в Лисичевскую пущу. И он, безмозглый идиот, понадеясь на ночь, поехал напрямик. Уже имел какой-то опыт, знал, скольких погубил этот партизанский “прямик”, а вот не удержался, поехал. Да еще взял Зину. Не хотела без него оставаться в отряде, которым на несколько дней заступил командовать Лыков. С Лыковым у нее завязывались некие (ненужные) отношения, и Федор подумал: пусть едет, скоро вернется.
Плохая дорога была на размытых дождями глинистых склонах, не лучше — в ложбинах с затвердевшими колдобинами. Уставшая лошадь замедлила и без того не шустрый свой шаг. Молодой полицай хлестнул ее вожжами, повозка дернулась, и Федор не удержался, вскрикнул от боли.
— А тише нельзя?
Напрасно, однако, не сдержался: услышав его, конный полицай подъехал к повозке.
— Чего это — тише? Больно? Подожди — еще не так больно будет…
Он сказал это, однако, без особой злобы, так, с легкой солдатской издевкой. На такое не обижаются, не обиделся и Федор.
— Что — немцам сдашь? — спросил он сквозь зубы.
— Сдам, а как же, — охотно согласился полицай. — Как полагается.
— И много уже сдал? — нервно спросила Зина.
Полицай заулыбался — всем своим красивым, свежепобритым лицом.
— Не много. Тебя первую.
Нетерпеливо стегнув вороного, он проехал вперед, но скоро вернулся.
— Жалко мне вас, — сказал уже без улыбки. — Повесят!
— Вешать ты будешь? — помедлив спросил Федор.
— Может, и я. Такая служба. Что советская, что немецкая — разница невелика. Правда, при Советах командиром был. Но и тут старший полицай.
— Больше повесишь — офицером станешь! — с вызовом бросила Зина, и Федор негромко одернул ее:
— Ладно ты. Тихо…
Федору в общем был знаком этот тип полицая, таких он уже видел. Наверно, из окруженцев, немало которых разбрелось летом сорок первого по деревням и хуторам, осело нахлебниками в сколько-нибудь зажиточных крестьянских хозяйствах. Некоторые успели и прижениться на хозяйских дочках или молодых вдовицах. Еще недавно сам был таким, после Слонимского котла прибился к дядьке Зарембе — ждал осени, когда вернется Красная армия. Но Красная армия все отступала, и он готов был пересидеть там зиму. Тем более что дядька не прогонял, а дядькина дочка, похоже, даже влюбилась в советского командира, дармового работника. Его жена с малым сынишкой оказалась неизвестно где, он даже не знал, удалось ли им вырваться из Белостока, где они квартировали перед войной. Скорее всего погибли. И он раздумывал, как ему теперь быть, — не жениться ли на Зарембовой дочке? Но накануне нового года немцы начали регистрацию таких вот примаков, надо было ехать в район, в полицию, или уходить куда-либо. И он вместе с такими же окруженцами, осевшими в соседнем хуторе, счел за лучшее податься в неприютный декабрьский лес. С этого и началось его партизанство, которое так нелепо заканчивалось.