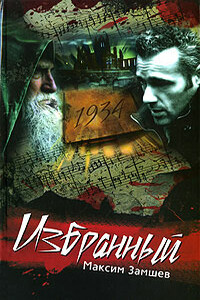Максим ЗАМШЕВ
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР
РОМАН
Часть первая
1985
Всю ту зиму шептались о том, что Черненко уже мертв, а члены Политбюро скрывают его смерть, схлестнувшись в яростной схватке за власть. Когда же шестой, и самый краткосрочный, вождь СССР все-таки скончался, а сменил его седьмой, энергичный и по партийным меркам почти юный, Михаил Горбачев, советские граждане увлеклись политикой не на шутку, во всей ее заразительной и демагогически бессмысленной полноте. Увлекались с наивной горячностью, хотя о настоящих пружинах политической жизни мало кто имел хоть какое-нибудь представление. Все тонуло в домыслах, сплетнях, пересудах, абсурдных выводах, а мнящие себя проницательными интеллигенты глубокомысленно покачивали головами чаще обычного.
Невысокий, живенький, с пятном на лысине, с уютным, чуть простонародным говорком, новый Генеральный народу в целом глянулся. В его бесконечных речах с приторным фрикативным «г» всякий открывал что-то важное для себя. Военные, как и при любой смене власти, надеялись, что порядка станет больше, студенты размечтались, что из институтов прекратят забирать в армию, барышни предполагали, что по каким-то неведомым причинам будет преодолен дефицит разного модного импортного тряпья, трезвенники помышляли выйти наконец на первый план, учителя, врачи и творческие работники всерьез заговорили о свободе слова. И даже управдом композиторского дома на улице Огарева Глафира Петровна Толстикова, пересказывая в очереди за продовольственным заказом одну из речей Михаила Сергеевича, в той части, где она касалась капитального ремонта и бесчинства шабашных бригад, смотрелась необычайно воодушевленно. Слушали ее заинтересованно, сочувственно и немного пристыженно. Советские люди часто испытывали стыд по поводу и без повода.
Слава нового рулевого росла, как тесто для домашних пирожков, которые в то время домохозяйки регулярно пекли накануне государственных и семейных праздников.
После памятного апрельского пленума диковинная «гласность» разбередила слабые мозги граждан до полнейшего беспорядка, объявленная руководством партии перестройка приняла характер вполне мифологический, а слово «ускорение» в устах партийных боссов зазвучало с почти космической силой и загадочностью, словно они не советские начальники, а персонажи популярных в СССР романов Герберта Уэллса и Рэя Брэдбери.
1985 год подходил к концу, а народ преисполнялся уверенностью, что все только начинается.
Жилось явно веселей, общественная активность поощрялась пуще прежнего, а те, кто хранил равнодушие к переменам, составляли обидно малое меньшинство.
К такому меньшинству относился восьмидесятилетний композитор Лев Семенович Норштейн, автор девяти симфоний, двух балетов и множества произведений для фортепиано. Он был на редкость бодр и подвижен для своих лет, при любой возможности совершал длинные моционы, не предавался унынию, жадно и много читал, но на новости из внешнего мира реагировал крайне избирательно, отстраняясь раздраженно от всего, что считал несущественным и что обычно пыталась до него донести дочка, Светлана Львовна, по мужу Храповицкая, дама чрезвычайно политизированная, уже много лет безрезультатно боровшаяся с собственным курением и вопиющей некомпетентностью управдома Толстиковой. Живо интересовался Лев Семенович лишь делами своего младшего внука Дмитрия, в этом году заканчивавшего школу. Последние месяцы старика волновало, что Димка, похоже, не на шутку увлекся дочерью их соседа по подъезду, музыковеда Эдварда Динского. Динский, по мнению Норштейна, запятнал себя мерзкими статьями, проклинавшими композиторов-авангардистов, попавших в так называемый список Хренникова. Не сказать, что Лев Семенович так уж симпатизировал Денисову, Кнайфелю, Смирнову, Губайдулиной, Фирсовой и другим, испытавшим в 1979 году огонь критики руководителя Союза композиторов СССР за безудержную приверженность модернистским мантрам, просто он держал Динского за человека, опасно неискреннего, неизменно с аморальной ловкостью исполняющего чьи-то установки, и ничего больше. Жена его, преподававшая в консерватории теоретические дисциплины, жила и действовала под стать мужу.
Не хватало еще породниться с этой семейкой...
Норштейн часто вспоминал, как случайно, спустя несколько дней после зубодробительного выступления Тихона Николаевича Хренникова, услышал разговор заведующего кафедрой композиции Московской консерватории Альберта Лемана с Еленой Фирсовой. Леман назойливо выспрашивал у женщины, что у нее и ее соратников произошло с Тихоном Николаевичем, и рекомендовал прийти к первому секретарю Союза композиторов и поговорить... Дело было в подмосковном Доме творчества композиторов «Руза», в умиротворяющий послеобеденный час, на скамейке напротив столовой. Тогда он подумал: «Хорошие времена! При Сталине после такого разноса вряд ли его фигуранты поехали бы на летний отдых как ни в чем не бывало». Потом околомузыкальная общественность выработала версию: Хренников якобы обиделся, что модернисты без спроса отдали свои произведения для исполнения на Западе и на эти концерты собралось немало публики, тогда как на проходящих по официальной линии премьерах сочинений советских корифеев во главе с могущественным Тихоном никакого ажиотажа не наблюдалось, и что после всего этого лидер авангардистов Денисов объявил Союзу композиторов непримиримую войну.