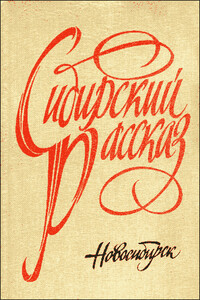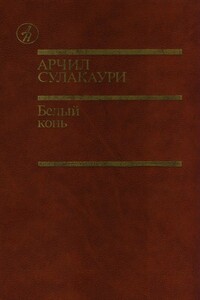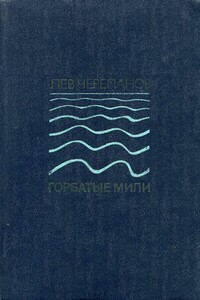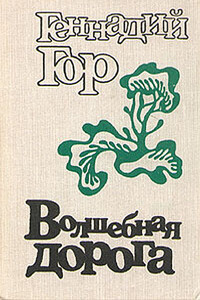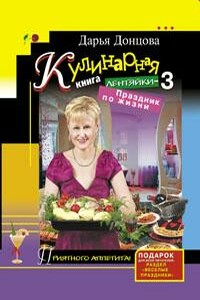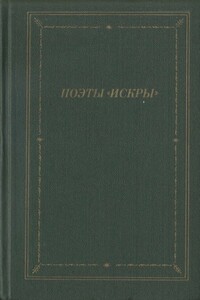Олег Пащенко
Колька Медный, его благородие
Брожу по улицам родного городка, нацепив черные очки, горблюсь, прихрамываю, пришаркиваю, попадаются знакомые — никто меня не узнает. Я худ, бледен, небрит и в растерянности. Белый плащ, мятый, давно не стиранный, я с утра свернул, бросил на плечо, хотя в одной сатиновой рубашке уже сильно мерзну, ветрено в сентябре, ветер как бы прикатывается на желтые улочки с дальних снеговых вершин. Утром я очистил карманы от автобусных билетиков, опилок, карандашных огрызков, табачной пыли… Оказалось у меня всего лишь двадцать рублей и семьдесят две копейки. Был долг в триста рублей, мне обещали быстро вернуть, адрес оставили, но я вот явился по адресу — должника нет и не будет, уехал насовсем в ему известном направлении. При желании я мог бы разыскать, пожалуй, бывших одноклассников: Слепцова, Желобанова, Кольку Медного, Игорька… Однако, поразмыслив, я решил дождаться ночи. В полночь подойдет поезд Харьков — Владивосток, в нем проводник тетя Галя, в нем мои вещи, и, собственно, летом это мой дом на колесах.
В дневном ресторане завтракаю, в вокзальном буфетишке обедаю, дремлю на детском сеансе в кинотеатре, а потом на аллее пустынного скверика, здесь раньше церковь стояла, я отыскиваю голубую лавочку, на ней впервые в жизни целовался, и обматываю голову плащом и одиноко сплю. В молодости я много и бурно читал, помню страницы: расстроенный герой спит, и снится ему, хорошему, что-то обнадеживающе хорошее. Я же просыпаюсь, не помня сна, с затекшими ногами и оголившейся спиной. Скорее всего, думаю, разбудили меня вороны: они словно бы переругиваются, кружа над тополями, что-то себе высматривая внизу. Нехотя закуриваю, оглядываюсь и в глубине сквера, рядом с железным решетчатым забором, вижу мужчину и женщину: они сидят друг против дружки на сухой траве и обедают. Вернее сказать, обедает женщина, а мужчина кормит ее с ложки, тарелка у них одна.
Конечно же, они стесняются посторонних глаз. Вижу, как он неспокойно озирается. Я ложусь на бок, усмехаюсь: ничего себе, парочка; и пытаюсь понять, кто они такие, смотрю на них, гадаю… Мужчина сидит, поджавши ноги по-восточному; медного отлива волосы, нестриженые, наползают на воротник рубахи, а рубаха в черную и красную клетки, черные на нем брюки, а на ногах новые бело-голубые кеды. Сидеть ему неудобно, не привык таким манером, поэтому он то встает на колени, то почти ложится, раскинув ноги, тогда лопатки как бы отделяются от узкой спины, образуя глубокую ложбину. Я было подумал: уж не Колька ли Медный?! Был у нас такой гонористый шибздик, шел обычно впереди буйной компании и заедался, а уж потом в драку вступали мускулистые дружки. Рассказывали мне, что сразу после школы он попал в Морфлот, служил на Тихом океане, там вроде и остался на рыбацком сейнере… Женщина сидит вся в черном, как ворона, черным она платком обмоталась, оставив узкую щелку для глаз, и только периодически отводит платок, принимая губами ложку, тут же и запахивается вновь. Нет, чтоб Колька стал кормить женщину?! Скорей всего, думаю я насмешливо, она монашка, а рыжий ее кормилец — штатный атеист, распропагандировал ее, лишил слепой веры, теперь вынужден собственноручно ее кормить. Мне уже не смешно, не интересно, я закрываю глаза, надеясь еще подремать, ну, хоть с часик, и это мне удается.
Вечером сижу в прокуренном вокзальном буфете, столик мой заставлен пивными кружками, весь в пенных лужицах, мухи стараются ползать посуху, но одна угодила в мокроту, я сбил ее ногтем на пол. Через черные очки все вокруг уныло, бессмысленно. Два окна выходят на перрон, дождливый, улепленный желтыми листьями, виднеются товарные вагоны, цистерны, платформы с бревнами. Ближний путь свободен, и шагает по шпалам человек в форменной фуражке, оглядывается и что-то злое и непримиримое кричит женщине, бегущей следом, худенькой, тонкошеей, чем-то, видимо, провинившейся перед ним. Герой ты, герой, думаю, ох и герой, кричишь на женщину принародно.
Я оборачиваюсь к буфету, будто меня кто-то подтолкнул, и мигом срываю очки: Колька Медный! Ну, конечно, конечно, рыжий в кедах разговаривает с буфетчицей, посмеивается и опять ко мне спиною, но я теперь вижу его в рост: это Колька, да-да!.. Едва сдерживаюсь, чтоб не заорать, не кинуться к нему. Все-таки я допускаю мысль, что могу и ошибиться, ведь не виделись с ним лет восемнадцать.
Горбясь и прихрамывая, я подхожу к буфету. Поразительно красивая буфетчица: высокая, смуглая, как бы полураздетая, она и ярка, и властна, и притягательна, и, что самое неприятное, знает себе высокую цену. Это я понял по ее беглому взгляду: замерила меня, взвесила, оценила и окатила холодом. Рыжий и не оборачивается в мою сторону. Наполнив серую матерчатую сумку булочками, пирожками и рыбными консервами, буфетчица негромко и с укором говорит:
— Держи, кормилец. И больше не ври, пожалуйста, это стыдно.
— Люся, Люся… Хочешь, Люся, я побожусь?! — Колькин голос наполняется обидой. — Да! Потом она сказала: «Кол-ля, мое благородие!»
— Господи, у нее где глаза? Ну, какое из тебя благородие!
— Люся, ты просто ревнуешь… — Колька грустно качает головой и, не оглянувшись, удаляется.