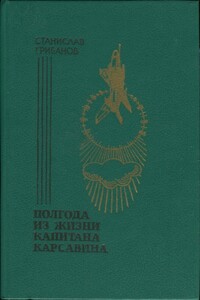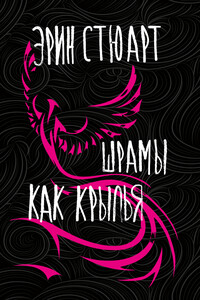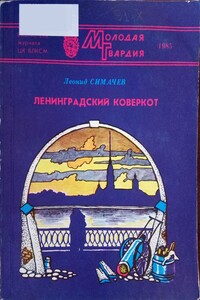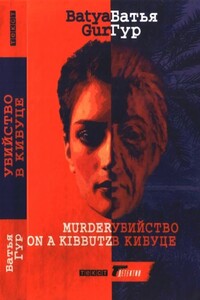Борька с тоской оглядел класс. Все смотрели на него строго, осуждающе. Ещё вчера вместе гоняли мяч на переменках, ходили на каток… Даже Колька Рыжов, двоечник чёртов, сколько раз у меня списывал, теперь волком смотрит. Да чёрт с вами, обойдусь.
Комсорг Катька Одинцова постучала карандашом по графину с водой.
— Тише, товарищи. Вот ты нам скажи, Боря, где ты такое услышал — дескать, немецкие автоматы лучше, чем наши, советские.
— Ну, я же сказал — в госпитале, раненый солдат говорил.
— А почему ты не сигнализировал? Ты же понимаешь, что это клевета на Красную Армию? И кто такой этот солдат, ты, хоть фамилию спросил?
— Нет, не спросил.
— Вот видишь, потерял комсомольскую бдительность. В то время, как Красная Армия храбро сражается против немецко-фашистских захватчиков, ты не сделал ничего, чтобы пресечь вредные слухи, порочащие нашу армию. Ну и что ты теперь скажешь?
— Не знаю…ну, виноват.
— Не «ну», а кругом виноват. В общем, так, есть предложение. Комсомольца Бориса Гальперина за потерю бдительности из комсомола исключить. Ходатайствовать перед дирекцией школы об исключении его из школы. Таким не место в наших рядах. Кто за исключение Бориса из комсомола, прошу голосовать.
Поднялся лес рук. Боря оглядел класс. Хоть бы кто-нибудь не поднял руки! Нет, все, как один. Пропади вы все пропадом, пойду на завод работать, хоть рабочую карточку дадут, голодать не будем. Вот, только, как матери сказать, у неё больное сердце…
— Прошу опустить, — голос Катьки продолжал звенеть, — на этом комсомольское собрание десятого «Б» считаю закрытым.
Катя засунула в портфель свои книги, тетради, собираясь идти домой. В класс вошёл завуч.
— Одинцова, зайди в комитет комсомола. Там один товарищ хочет с тобой побеседовать.
Постучав, Катя несмело вошла в кабинет секретаря комитета комсомола. Секретарь сидел сбоку своего стола. На его месте сидел мужчина средних лет, в темно-зеленом кителе. Офицерские галифе были заправлены в белые бурки, подшитые кожей. Такие бурки выдавали командирам и большому начальству.
— Ну, проходи, Катерина, — сказал секретарь, — познакомься, это Анатолий Сергеевич. Он хотел бы задать тебе несколько вопросов.
Катя села на краешек стула, вопросительно взглянула на Анатолия Сергеевича.
— Катя, мы давно присматриваемся к тебе, — Анатолий Сергеевич открыл пачку «Казбека», — дирекция и учителя рекомендовали тебя с лучшей стороны. Комсорг класса, хорошая дисциплина, успеваемость…
— Ну, какая там успеваемость, недавно трояк схватила по тригонометрии.
— Это дело поправимое. Думаю, ты человек надёжный. Мы хотим тебе поручить задание государственной важности. Как ты на это смотришь?
— А какое задание.
— Я не могу тебе всего рассказать, это государственная тайна. Единственное, что могу сообщить — это работа с иностранцами. Ты не спеши, Катя, подумай, как следует. Потом, денька через два нам сообщишь. Добро?
— Хорошо.
— Только ты же понимаешь, об этом не должен знать никто, даже твои родители.
Отец Кати собирался в вечернюю смену. Мать вытащила чугунок из печки и начала делать ему «тормозок» — несколько варёных картошин в «мундирах», луковицу.
— Катя, ты сегодня чего так поздно? — Спросила мать.
— У нас сегодня в классе было комсомольское собрание.
— И про что вы там говорили?
— Выгнали Борьку из комсомола, а из школы он сам уйдёт.
— Это какой Борька — из эвакуированных, что ли? — мать выложила несколько картошин из чугунка на газету.
— Ну да, Гальперин. Он с матерью живёт.
— А за что вы его так?
— Пусть не болтает. В госпитале начал нести чо попало. Наши, дескать, автоматы хуже немецких. Вот теперь и получил своё.
— Эти евреи — народ ненадёжный, себе на уме, — вмешался отец, — ты, дочка, держись от них подальше.
— А мне работу предложили, — похвасталась Катя.
— Какую работу? — отец снял с вешалки телогрейку.
— Не велено сказывать.
— Ну, ты хоть намекни, — мать вытерла тряпкой стол, — чего делать-то?
— Этот дяденька говорит, важное задание, работать с иностранцами в Москве.
— А что это за дяденька? — насторожился отец.
— Ну, солидный такой, в бурках и френче.
— Похоже, из органов. Ну и ты как, согласилась?
— Не, я ещё думаю. Может, и откажусь.
— Гляди, не вздумай отказываться, — отец взял со стола
свой "тормозок", завёрнутый в газету, — там шуток не любят.
— Да ты чо несешь-то, старый, — запричитала мать,
ты погляди, дитё ещё совсем, куды ей? Пропадет она там.
— Цыц, дура старая! Не понимаешь, чего они с нами
могут сделать? Откажется Катька — всем нам каюк.
Поезд из Свердловска в Москву шёл медленно. Подолгу стоял на полустанках, пропуская вперёд военные поезда. Катя видела в окно, как мимо, не снижая скорости, проносились составы, где на платформах стояли, укрытые брезентом, танки, артиллерия. Из-под брезента торчали стволы орудий. В эти мартовские дни 42-го фронт медленно отходил от Москвы на запад и из Урала, Сибири шли и шли составы.
Наконец, поезд приполз на Казанский вокзал. Было уже тепло, таял снег, не то, что в её родном Свердловске, где по утрам солнце пробивалось через морозную мглу, часто срывались снежные метели.
Перейдя площадь перед вокзалом, Катя подошла к милиционеру, показала адрес, записанный на листке бумаги Анатолием Сергеевичем. Милиционер долго рассказывал, как пройти, постоянно приговаривая: «Это просто, гражданочка». Большую часть пути Кате пришлось пройти пешком. Трамваи ходили очень редко и нерегулярно. Катю поразила суета и толпы народа на улицах Москвы. Окна во многих домах были ещё заклеены крест-накрест бумажными лентами, хотя бомбёжки давно прекратились. Катя шла по подтаявшему снегу, с трудом таща тяжёлый фибровый чемодан. Подойдя к большому серому зданию, она постучала в массивную дубовую дверь. Никого. Катя постучала ещё, потом начала бить в дверь ногами. Наконец, дверь приоткрылась и показалась немного заспанная физиономия солдата в офицерской гимнастёрке и фуражке с синим околышем.