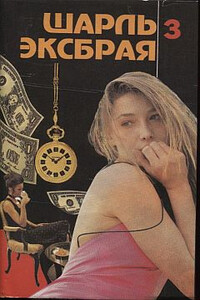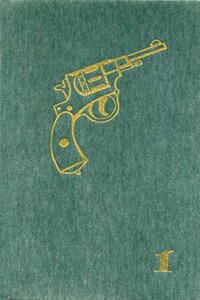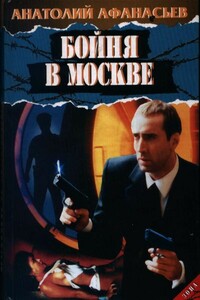— Доченька, вернись! Я виноват! Не досмотрел, не уследил! Моя вина! — Анин отец мужественно сдерживал себя все предыдущие дни, и вот сейчас, стоя у закрытого гроба, у края вырытой могилы, сорвался на истерику: — Моя вина, дочка!
Дикие вопли этого ублюдка послужили спусковым механизмом, сняв все предохранители — моя голова взорвалась.
— Конечно, твоя вина, мудак! А чья ещё? Всю жизнь она ждала только одного — твоего одобрения, но не получала ни слова, ни признания! Не закончила год на «отлично» — Анька плохая, и по фигу, что она три недели перед экзаменами провалялась в больнице с переломом! Специально ногу сломала, чтобы в финале не играть: все девочки из команды получили медали, а она — нет! Анька плохая! Разочарование! Нечем гордиться! Не ребёнок, а недоразумение! Высокая — и в кого только уродилась, каланча? Стройная — и кому ты такая нужна, доска? Глупая, страшная, неудачница — сколько раз она ревела в моей комнате ночи напролёт, задаваясь вопросом: «Почему я такая плохая?». Она — плохая! Ей даже в голову не приходило, что с ней-то всё в порядке, в отличие от её родителей!
— Заткнись, — слышу я из-за спины хриплый шёпот своей матери.
— Заткнуться? Хрен вам! Я и так слишком долго молчала! Сколько раз мне доводилось выслушивать её рассказы о том, что папа недоволен, что мама вечно ставит в пример детишек своих подруг! Кто из вас хоть раз её похвалил? ПО ДЕЛУ! Не просто так, не за то, что она ваша дочь, а по делу! За то, что поступила на бюджет сама, за спортивную стипендию, за то, что через год ей прочили место в сборной? Кто? Хоть раз? Никто! Никогда! Я одна её любила, я одна её знала! Но я — её подруга, а она грезила о ком-то большом и важном, взрослом и авторитетном, о ком-то, кто признает её заслуги, кто разглядит в ней красивую девушку и просто хорошего человека! Не находя одобрения дома, она нашла его на стороне! А зверь нашёл её!
Я запнулась, давясь всхлипами, рваное дыхание не позволяло больше орать, и я, оглядев ошеломлённые лица немногочисленных собравшихся — тех, кто рискнул этим тёплым сентябрьским вечером прийти на кладбище, чтобы проводить в последний путь содержимое закрытого гроба, продолжила уже в вполголоса:
— Вы беседовали с ней? Вы знали, чем она живёт? О чём мечтает? О чём думает? Думала… НЕТ! Времени не было? Теперь вы будете говорить только с могильной плитой, зато времени — хоть отбавляй! Вот — твоя дочь, — глядя Анькиному папаше в глаза, я подошла к гробу и легонько пнула его носком ботинка, — вот она — и это твоих рук дело! Живи теперь с этим, будто и не было у тебя никогда дочери: как жил, так и живи!
Атмосфера вокруг уже искрится, словно пронизанная тысячами молний, ещё немного — и грянет ба-бах, для которого я послужу детонатором. Стало страшно. Немного полегчало. Я повернулась спиной к гробу и двинулась прочь от процессии — туда, где в дальнем уголке тесного городского кладбища виднелся тенистый скверик. Проходя мимо своей матери, я случайно (ли?) задела её плечом и услышала вслед:
— Себя позоришь — так нас бы не позорила.
Себя позорю. Знаю. Ну извините. Посмотрите-ка на гроб, вокруг которого вы все собрались — ОНА уже никого не опозорит. Возможно, это выход?
Садящееся солнце порождает длинные тени. Я иду по дорожке меж аккуратных захоронений и наблюдаю за своей тонкой, поломанной прямыми углами могильных плит, несуразной тенью, шагающей за мной следом моей же размашистой, скорой походкой. «Несексуальной», как говорит моя мать. Всё во мне «несексуально» — асимметричная стрижка, пацанские шмотки, корявый походняк, дворовый жаргончик. Что поделать: одним тут с дочерью не повезло, вторым… Сколько вас?
Вижу, как мою тень настигает ещё одна, чужая. Некрупная, незнакомая, или… Оборачиваюсь — едва поспевая, за мной по пятам шагает Пауль Ландерс. Я запомнила его имя, сама не знаю, почему. Что он вообще здесь делает — разве полицаи обязаны ходить на похороны тех, чьи дела расследуют? Хотя, припоминаю, он, кажется, дружок Анькиного папки. Всё ясно — наверняка, такой же урод.
Добираюсь до первой скамейки пустынного сквера — вторник, вечер, кладбище в центре города, на котором редко уже кого хоронят, только если на семейных участках… Ландерс плюхается рядом, дышит тяжело, на меня не смотрит. Бесит.
— Что надо?
— Поговорить.
— Поговорили уже. На допросе, в день, когда Аньку… — чёрт, ком подкатывает к горлу в самый неподходящий момент, не хватало ещё при этом мужлане разреветься, — …когда Аньку нашли.
Закрываю лицо руками, чтобы он не разглядел на нём кривой гримасы боли.
— Не на допросе, а на опросе. Не стесняйся. У тебя стресс, это естественно — мне можешь верить, я всякого повидал.
Долго молчу, пока не чувствую, что опасность разрыдаться на этот раз обошла меня стороной.
— Сигарету дай.
Полицай пристально смотрит мне в глаза. Улыбается. Какая улыбка! Так бы и вмазала по ней.
— Дай сигарету, мне восемнадцать уже.
— А куришь ты, наверняка, с одиннадцати, — достаёт пачку и протягивает её мне вместе с зажигалкой.
— Не угадал. Не курю — режим у меня.
— Да знаю я, вы же с Аней вместе в физкультурный поступили…