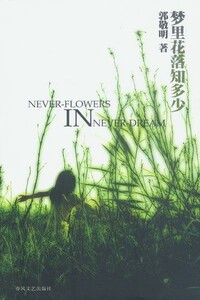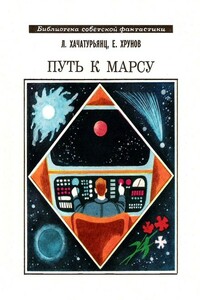Привет, мать, ты, конечно, не ожидала. Никогда, с тех пор, как появился у нас телефон. У меня? — нет, сперва у тебя, значит, лет двадцать пять, никогда с тех пор не писал тебе писем. И вот теперь, когда уже нет и адреса… вернее, нет прямого, а только обратный… Не стану говорить «когда нет адресата», не знаю, мать, ничего не знаю, только ли здесь тебя нет или нет нигде. И потом, если я к тебе обращаюсь…
Ах, ты скажешь, сынку, но ведь это же ты обращаешься. Обращаться можно и ко всем другим, и к самому себе. Неужели ты веришь всерьез, скажешь ты мне, что там, где я нахожусь теперь, тоже есть нечто такое, что не есть ничто?..
Вот видишь, как давно я тебя не слышал, стал уже забывать твой голос и твой словарь. Ты ведь так никогда не сказала бы. Ты сказала бы: «Неужели ты думаешь, что и там что-нибудь есть? Нет, милый, там — ничего, там — „гурнышт“», — сказала бы ты. И непременно переспросила бы: «Знаешь, что такое „гурнышт“?» И я бы, как всегда, черт меня побери, еле сдерживая раздражение, сказал бы: «Да, знаю, знаю». Но ты бы все равно объявила торжественно, как некую важную истину: «Вус эйст гурнышт? Гурнышт — это ничего. Ничего там нет!»
Но это бы ты сказала тогда, когда была той, что была здесь, и еще не знала, как это там на самом деле. А теперь — знаешь? А если знаешь, то, может, и говоришь совсем иначе, и вообще ты совсем другая, и ты уже вовсе не ты, а нечто… нет, это я говорю: ты уже не ты, а нечто совсем-совсем иное… Нет, мама, мне с этим не совладать, я не годен к таким фигурам и петлям. Я буду рассуждать по-простому, как чувствую: если ты есть где-то там, не знаю где, если как-то там существуешь, не знаю как, то ты — это ты, точно так же, как я — это я. Ну, а проводимость в одну лишь сторону — что ж тут необычного для электронщика? Пусть удивляются гуманитарии, слава Богу, я не из их числа, не из этого безрукого, бесполезного презренного ряда…
И знаешь, может, в этом как раз и смысл, если он вообще существует: в отсутствии адреса. Нет адреса, но ведь и нет телефона, и если никак нельзя позвонить, не набрав номер, то написать без адреса все-таки можно и даже понадеяться при этом, что вдруг дойдет. Вдруг дойдет!
Ты спросишь, что это я, всерьез ли, на самом ли деле я в это верю? Знаешь, верю не больше, чем не верю, но и не меньше, как когда, временами по-разному, в среднем — поровну. Ты-то ведь мне ничего не расскажешь, вот и приходится полагаться на себя самого. Но на что же в себе? На разум, на чувство, на интуицию? Или, может, впрямь, на веру?.. Это трудный вопрос. В однородной среде я решаю его однозначно и просто. Верующим всегда говорю, что неверующий, а неверующим — наоборот, что верующий, и как-то чувствую себя поспокойней, будто на что-то опираюсь, от чего-то отталкиваюсь, будто не только отрицаю, но и утверждаю. Наедине с самим собой бывает труднее. Зачем я так вру? А ты знаешь, я вовсе не вру. Я действительно именно так и чувствую. Они, эти люди, знают, а я не знаю. Они уверены, а я сомневаюсь. Но сомнение мое идет еще дальше: я и в их уверенности сомневаюсь, вернее сказать, я ей не доверяю, она меня не убеждает, эта их уверенность.
Я ведь тоже кое-что все-таки знаю. Я знаю, что я не глупее их, не беднее мыслями, чувствами, нервами, — отчего ж это я сомневаюсь, а они — уверены? Ну, верующие к ответу всегда готовы: гордыня, личные качества побоку, не нам судить. Господь выбирает Сам, кому благодать, а кому зеро… Но тогда, извините, я здесь тем более лишний, при всем желании не могу соответствовать, исключите меня из списков, прогоните за дверь… Я думаю, мысленно они так и делают. Атеисты терпимей, снисходительней, что ли, с ними легче, и если уж приходится выбирать…
Ты скажешь: «Ну, ладно, сынку, это все интересно, но давай-ка, милый, опустимся на землю…» Да, именно так, любимое твое выражение, тоже всегда безумно меня раздражавшее. Только я начинал разворачивать свои построения… «Давай опустимся на землю, — скажешь ты мне. — Какой все-таки смысл писать туда, откуда не получишь никакого ответа, даже если бы знал, что письмо дойдет?»
Прости, я попробую тебе возразить: ответа теперь, если хочешь знать, вообще не бывает. С тех пор как мы снова стали писать свои письма, с начала отъездов, мы ведь так и пишем их, не ожидая ответа. Месяц туда, месяц обратно, две-три недели на раздумья, на лень — и любой ответ уже не ответ, хотя бы потому, что ты и не помнишь, о чем спрашивал в предыдущем письме.
Ну, а кроме того, я лично, ты знаешь, вообще ведь только так и живу, обращаюсь к читателю, которого не существует в природе или он знает не хуже меня все, что я пытаюсь ему рассказать. Так что тут как раз для меня — ничего чрезвычайного, все как обычно.
Вот только вопрос: о чем же мы будем с тобой толковать. У меня ведь сейчас нет ни одной собственной мысли. Оказалось вдруг, что все мои мысли, самые важные и сокровенные, — это плод коллективного творчества, достояние общества. Помнишь, как у Леонида Мартынова: «И что такое случилось со мною? Говорю я с тобою одною, а слова мои почему-то повторяются за стеною…» Кто-то должен был высказать — вот и вышло, что я, а мог бы другой, и ничуть не хуже.