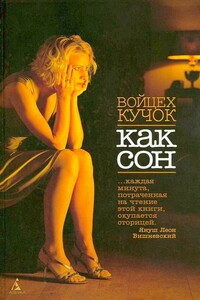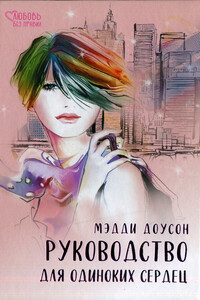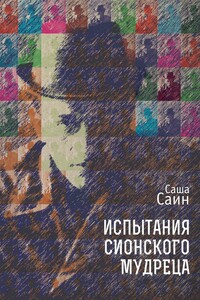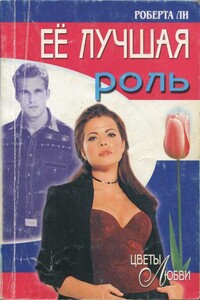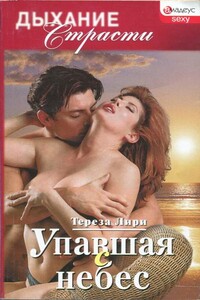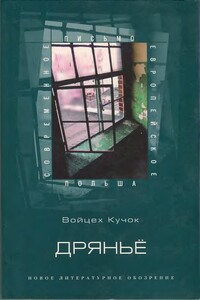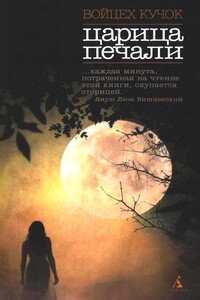Силы Адама на исходе, места освобождаются медленно, люди входят и выходят, источая кисловато-приторное амбре; в принципе Адам мог бы сесть, но он знает, что круговорот старушек на остановках не позволит ему занять место на сколько-нибудь продолжительное время, что придется либо то и дело уступать место, либо притвориться спящим и слушать над своей головой покашливания, покряхтывания, вздохи, взывания к Богоматери и Иисусу, так что уж лучше подождать, пока автобус отъедет подальше от города, а пока можно и постоять; сегодня можно и помучиться, сегодня он может многое снести в связи с тем, что наконец-то закончилось, что свершилось и вступило в законную силу: вот уже час, как Адам больше не студент. Вроде бы чистая формальность, но он тем не менее проникся исторической значимостью момента; если бы жизнь состояла исключительно из таких формальностей, если бы волнение, сопровождающее так называемые исторические моменты, было знакомо всем людям, думает Адам, то мир был бы более благожелательным, может даже настолько, что стал бы невыносимо благожелательным миром, в котором проникнутые постоянной ангельской растроганностью люди сбивались бы в толпы и задыхались бы в дружеских объятиях. Адам доволен собой: он больше не студент, он сдал госы; вместе с ним в этот день экзамен сдавали еще несколько человек с его курса, Адам пришел попозже, чтобы не томиться долгие часы в ожидании, не нервничать, кроме того, он хотел идти последним: вошел, сдал, принял поздравления. Один из преподавателей, тот, который в течение всех лет обучения не спускал с него всевидящего глаза (назвать его взгляд дружественным язык не повернется), крепче, чем остальные, пожал его руку и несколько дольше, чем остальные, а если быть совсем точным, то значительно дольше, держал ее в своей — держал настолько долго, что Адам почувствовал неловкость, даже смущение; профессор жал его руку так проникновенно, что Адам вспыхнул, зарделся, и тогда профессор этот, который в течение всех лет обучения скашивал на него отнюдь не дружественный глаз, спросил (но как-то так в сторонку, вроде как обращаясь к преподавателям): «А чего это он у нас такой робкий?» — и, не переставая жать ему руку и вроде как поздравляя (хотя Адам чувствовал, что это рукопожатие вражеское — какое-то настырное, сальное), добавил: «Больше смелости, дорогой коллега, вы теперь людей будете лечить, вы не можете быть таким пугливым» — и захихикал в сторону преподавателей, побуждая их поддержать его и подхихикнуть ему и все еще держа руку Адама, ощущая над ним власть, потому что Адам не вполне представлял, как высвободиться; профессор подмигнул ему все тем же глазом, которым столько лет неприязненно буравил Адама, подмигнул так слащаво, так вульгарно, так призывно, что Адам, едва не упав в обморок, настолько неловко выдернул свою руку, что комиссия тут же перестала хихикать. Освободившись от назойливого рукопожатия, слащавого взгляда и странного хихиканья, Адам поклонился и вышел и с каждым последующим шагом ощущал все более глубокое удовлетворение оттого, что в конце концов все завершилось, что в последний раз он возвращается домой из академии, что впервые едет в качестве дипломированного инженера человеческих тел, а точнее, костей, и потому, пребывая в чудесной ауре помазания, он повис на поручне и терпеливо ждал, пока автобус пересечет городскую черту. Адам смело смотрел на пассажиров, чувствуя, что его приподнятое настроение может передаться и тому и этому, чувствуя, что, когда он смотрит на людей смело, уверенно и гордо (но не высокомерно), он обретает над ними власть, что, воспринимая их с позиции человека смелого, уверенного и гордого, он навязывает им соответствующее впечатление о себе; Адам уж было совсем погрузился в мысли, насколько такое впечатление может оказаться устойчивым и насколько легче жить людям, которые сохраняют полный контроль над производимым на них так называемым первым впечатлением, насколько легче жить людям, которые сами производят благоприятное впечатление, обмениваясь с окружающими взглядами и улыбками, а голову держат слегка вверх, подбородок — высоко, смело, гордо (но не высокомерно), — как в автобус вошел парнишка, можно даже сказать, что мужчина.
Хорошенький такой — да что там хорошенький, просто красивый парнишка, а то и мужчина садится у окна и делает это не задумываясь, машинально, он просто садится, хотя все еще продолжается круговорот старушек и практически нет свободных мест; он в мальчишеской своей рассеянности, а то и мужской беспардонности находит-таки свободное место, плюхается на него, сопроводив это свое плюханье вздохом облегчения, дескать, как же хорошо он устроился и какое это наслаждение для его мальчишеско-мужских ног, здоровых и сильных, но не желающих стоять попусту; Адам замечает в парнишке определенного рода, как бы это сказать, мысль, что ли, прагматичность, вот именно; Адам очарован его прагматизмом, который производит впечатление, будто парень рассчитал, что не должен попусту терять свою энергию на стояние в автобусе, если хоть одно место свободно; он производит на Адама благоприятное впечатление, он мастер первого впечатления: этим своим уверенным и исполненным гордости захватом свободного места он доказывает, что в его здоровом мальчишеско-мужском уме нет места для излишних терзаний, в его мальчишеско-мужской голове никогда не застревала дилемма, можно или нет занять место, если старушки — или, скорее, вероятность старушек, некие гипотетические старушки — притаились в ожидании свободного местечка. Адам не может подавить в себе желание смотреть на парня, а то и мужчину и смотрит на него украдкой, до тех пор пока его глаза не встречаются с его глазами, отраженными в оконном стекле, — встречу этих взглядов Адам считает предвестием более близкой встречи и более тесного общения.