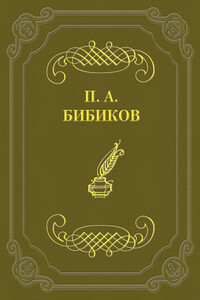Современному передовому человѣку приходится иногда искренно позавидовать доктринеру – рутинеру. Посмотрите на послѣдняго: нѣтъ у него отравляющаго сомнѣнiя; онъ не знаетъ мукъ, сопровождающихъ страстное, ненасытное желанiе рѣшить, объяснить себѣ преслѣдующiй васъ вопросъ. У него готовы отвѣты на все, готово рѣшенiе, готова мораль и правила нравственности; подводите только подъ нихъ поразившiя васъ житейскiя явленiя. Онъ беззаботенъ, веселъ, счастливъ. Спокойно ложится онъ въ постель, завершить сномъ проведенный безъ тревогъ и волненiй день; такъ же спокойно встрѣчаетъ новый, въ полной увѣренности, что ничѣмъ не можетъ быть возмущено его спокойное теченiе. Всѣ его страданiя и непрiятности не выходятъ изъ узкой, тѣсной сферы эгоистическаго наслажденiя жизнью и ограничиваются только подчасъ оскорбленiемъ самолюбiя или долетѣвшимъ до его почтеннаго уха голосомъ изъ новой атмосферы, голосомъ раздавшимся изъ устъ непримиримаго врага его, человѣка иной жизни и закала, голосомъ, нарушающимъ его олимпiйское спокойствiе и рождающимъ въ душѣ сомнѣнiе въ твердости и прочности рѣшонныхъ имъ вопросовъ.
Совсѣмъ иное дѣло жизнь для человѣка, мучимаго тревогой и сомнѣнiемъ, носящаго въ груди всѣ вопросы неразрѣшонными и всѣми силами души стремящагося къ ихъ уясненiю и разрѣшенiю. Ему нѣтъ покоя, ему нѣтъ пощады, нѣтъ отдохновенiя.
Сознательное размышленiе о какомъ бы то нибыло вопросѣ жизни, повидимому пустомъ и неимѣющемъ особаго значенiя, втягиваетъ его въ самый кипятокъ жизни; для него всѣ понятiя перепутались, сплелись, зацѣпили другъ друга; ни одно неподходитъ подъ школьныя и всѣми принятыя опредѣленiя, всякое силится освободиться отъ узды, положенной на него рутинными нравственными и схоластическими прiемами: все перемѣшано, перетасовано какъ колода картъ: бывшее раздѣленiе всего по мастямъ, облегчавшее работу мысли, признано несостоятельнымъ; всѣ границы, всѣ предѣлы потеряны. Что одному ясно какъ день, вѣрно какъ дважды два, то для другого предметъ сомнѣнiя и страданiй. Ни въ области реальнаго знанiя, ни въ сферѣ нравственной опредѣленныхъ рѣшенiй, готовыхъ отвѣтовъ нѣтъ. А какъ легко было прежде: стоило сосчитать только количество пестиковъ и тычинокъ, чтобы отнести растенiе къ тому или другому виду и роду; смутилъ вашъ покой вопросъ изъ мiра нравственнаго, – отправляйтесь къ Аристотелю или къ разнымъ древнимъ авторитетамъ, и все уяснено, опредѣлено, подведено подъ рубрику. Теперь не то: гдѣ кончается растенiе и начинается животное, гдѣ оканчивается животное и начинается человѣкъ? И уже не пойдешь къ Аристотелю справляться, чтобы онъ объяснилъ тебѣ das Ding an sich.
Странныя эти мысли родились въ головѣ моей по выходѣ изъ Михайловскаго театра послѣ представленiя комедiи г. Сарду «Nos Intimes», встрѣченной съ такимъ всеобщимъ сочувствiемъ въ Парижѣ, а слѣдовательно и у насъ. Какое кажется имѣютъ отношенiе приведенныя мысли съ комедiей г. Сарду? а между тѣмъ вышло такъ. О чемъ ни задумайся, о скучномъ или о веселомъ – богъ – знаетъ куда утянетъ. А между тѣмъ я намѣренъ объяснить, какъ родились въ головѣ мысли, которыя повидимому не имѣютъ никакого отношенiя ни къ какой комедiи.
Одинъ изъ остроумнѣйшихъ нашихъ публицистовъ сказалъ когда – то, что о театрѣ говорить нельзя, въ особенности о французскомъ, непустившись въ глубокомысленныя разсужденiя à la Сiэсъ о томъ, ce que c’est que le tiers—état?
Кстати, любезный читатель, не замѣчали ли вы надъ собою страннаго дѣйствiя, производимаго современной французской комедiей и драмой и состоящаго въ томъ, что какую бы пьесу ни давали, впечатлѣнiе всегда одного и того же рода. Я не говорю, чтобы оно одинаково было по количеству впечатлѣнiя: это зависитъ отъ большаго или меньшаго таланта автора пьесы; я говорю о качествѣ, которое (худо ли оно или хорошо, это другой вопросъ), но всегда одного и того же рода. Это замѣчательное явленiе, и объясненiе его должно открыть намъ многое, а главное, оно и приведетъ къ тѣмъ повидимому неотносящимся сюда мыслямъ, которыми я началъ.
Если литература данной эпохи есть зеркало этой эпохи, то эта аксiома еще очевиднѣе въ вопросѣ о театрѣ. Припомните псевдоклассическую фрацузскую комедiю, заразившую всю Европу въ блестящее время подражанiя всему французскому. Но о классицизмѣ я не скажу ни слова. Я прошу только читателя мысленно пробѣжать за мной по той эпохѣ, въ которую аристократическая придворная Францiя наслаждалась старикомъ Расиномъ, принимавшимъ немалую долю участiя въ воспитанiи того могучаго, героическаго, энергическаго населенiя XVIII вѣка, которое и теперь поражаетъ насъ своимъ величiемъ. Никто изъ здраво – развитыхъ людей не станетъ искать греческихъ и римскихъ героевъ въ какомъ – нибудь Британикѣ или Федрѣ; напротивъ того, подъ римской тогой, надѣтой еще на французскiй манеръ, потомучто такъ казалось грацiознѣе, всякiй узнаетъ придворнаго аристократа памятнаго всѣмъ вѣка Людовика XIV, ставшаго моделью для подражанiя отъ Мадрита до молодого Петербурга. Духъ подражанiя и копированiя усвоился особенно хорошо высшими слоями на русской почвѣ. Съ тѣхъ поръ многое перемѣнилось во Францiи, но духъ подражанiя, привившiйся особенно глубоко къ екатерининской аристократiи, не замѣчалъ, что оригиналъ уже измѣнился, и не разъ, и не два, продолжалъ повторять копiи, утратившiя всякiй смыслъ и значенiе. Парижскiй дворъ переѣхалъ въ Кобленцъ во время передѣлки тюльерiйскаго дворца, какъ выражается одинъ езуитскiй учебникъ; Банапарте, фельдмаршалъ Людовика XVII, управлялъ Францiей отъ имени короля, классическая трагедiя уступила мѣсто безцвѣтной драмѣ временъ имперiи, – подражанiе продолжалось; королевское семейство съ дворомъ возвратилось въ Тюльери, какiе – то новые, невѣдомые люди, неаристократическаго происхожденiя, избираютъ своего короля, гордящагося тѣмъ, что онъ не аристократъ, – подражанiе прежнимъ временамъ продолжается; дворъ вмѣсто Кобленца переселяется въ окрестности Лондона, – таже исторiя. Но есть вѣдь нѣкоторая разница между Расиномъ, Бомарше, В. Гюго и Скрибомъ. У насъ этого не замѣчаютъ. Театръ представляетъ историческую эпоху, ея стремленiя, надежды, упованiя, господствующiя идеи, силы, сословiя. Вѣдь въ Парижѣ всякiй разъ иная публика восхищалась смѣнявшими другъ друга писателями. Парижъ дворянскiй, аристократическiй и Парижъ буржуазный, мѣщанскiй – столько не похожи другъ на друга, какъ Расинъ на Скриба. Въ нашей литературѣ такихъ перемѣнъ не было и дай – богъ, чтобъ никогда не было. Но чтó можно заключить объ обществѣ, въ которомъ единственное звено, связывающее столь разнородныя вещи – духъ подражанiя!



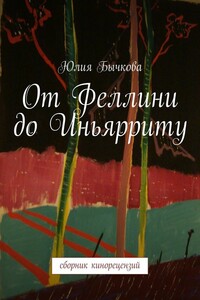


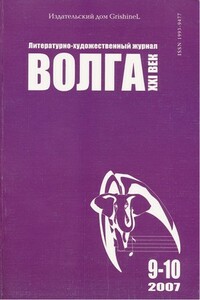


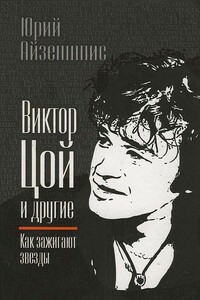
![Естественное лечение кариеса. Реминерализация и восстановление зубов при помощи питания [фрагмент]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)