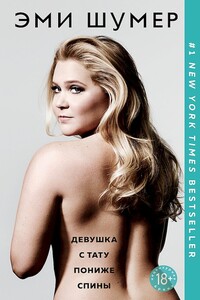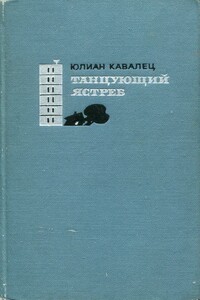Снова что-то потянуло меня к этой стопке бумаг – протоколам следствия и показаниям свидетелей. Я обратился к ней, хоть и без особой нужды, ибо дело Войцеха Трепы знал хорошо, до мельчайших подробностей, и понимал, что эта стопка бумаг, столько раз уже мной перечитанных, ничего нового мне не скажет. Все-таки я протянул руку и подвинул ее поближе. И вот опять передо мной чистый машинописный текст, несколько недель назад снятый с новой, электрической пишущей машинки, которую мы получили недавно, когда канцелярии прокуратур начали оснащать удобным современным оборудованием. Вместе с машинкой появился новый телефон и три пружинящих стула, сделанных из металлических трубок. На таком стуле я сижу сейчас и читаю уже известные мне первые фразы протокола следствия и свидетельских показаний по делу Войцеха Трепы, 1906 года рождения, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, – читаю еще раз то, что уже знаю на память, в чем нисколько не сомневаюсь и что для меня, прокурора, не может иметь большого значения. Впрочем, теперь все факты, относящиеся к делу Войцеха Трепы, подтвердились, и оно не представляет сложности. Да и сам Войцех Трепа уже ничего не путает и ничего не отрицает. Пожалуй, между судьями и обвиняемым возникло взаимопонимание и согласие, то согласие особого рода, какое может возникнуть только между судьей и обвиняемым. Осталось выслушать показания нескольких свидетелей, речь защитника и речь прокурора, последнее слово обвиняемого и – приговор. Разве только обвиняемый еще что-нибудь выкинет, но, кажется, он уже больше ничего не выкинет. Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, как будто успокоился. В первые дни процесса он вскакивал с места, часто начинал говорить, когда его не спрашивали, прерывал судью, и тому приходилось призывать его к порядку, и только после строгого замечания снова усаживался на широкой удобной скамье подсудимых между двумя милиционерами. Но теперь он успокоился, так как все выяснилось и убийства он не отрицает, – все было именно так, как показало судебное разбирательство.
Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, признал себя виновным во всем, что предъявлялось в обвинительном акте, и ему, пожалуй, стало легче, поэтому и держится он спокойно; лишь иногда откинет со лба темные, уже с проседью, поредевшие волосы или проведет рукой по худощавому застывшему лицу. И только. Сидит спокойно на широкой скамье подсудимых и смотрит.
Протоколы следствия кончаются страницей, на которой четким шрифтом новой электрической машинки напечатано, как и где его арестовали. Само собой разумеется, речь идет о втором, последнем аресте, который привел его на скамью подсудимых, а не о том, давнишнем, первом, о котором тоже упоминается в протоколе, когда обвиняемый за недостатком улик отделался предварительным заключением. Я знал, что после протокола этого второго ареста открою страницу с показаниями болтливого старика свидетеля, который во время допроса совсем некстати углубился в историю семьи Войцеха Трепы и вспомнил его деда Матеуша. Этот экскурс старика свидетеля не мог иметь большого значения в деле Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, и потому должен рассматриваться судьей и прокурором как нежелательный отголосок прошлого, ибо факты подтвердились и юридическая сторона дела ясна. История деда обвиняемого занимала две странички Машинописи и начиналась со слов: «Я хорошо знал семью Войцеха Трепы, хорошо знал его деда Матеуша, который уехал в Америку, когда Войцеха еще не было на свете». А потом шло пространное описание того, что произошло с этим дедом, как он вернулся из Америки и как обменял доллары, привезенные оттуда, на австрийские деньги и положил их в банк, чтобы набежали кое-какие проценты, пока он присмотрит землю. Деньги в банке пропали из-за девальвации, а того, что деду Матеушу выплатили, могло хватить на теленка или, самое большее, на телку.
В этих показаниях болтливого свидетеля содержалось еще немало и других сведений о старом Матеуше, но мне было достаточно упоминания о деньгах, заработанных им в Америке. Казалось, кто-то написал о марках моего деда Яна, который тоже положил в банк все, что скопил, работая по строительной части в Саксонии. Я быстро подсчитал, что мой дед умер двадцатью двумя годами позже, чем дед обвиняемого, подсчитал, хотя мне это было ни к чему. А потом прикинул, что сам я моложе обвиняемого Войцеха на двадцать три года. Вот как получилось, что я произвел эти «обмеры времени» и нашел в нем место для деда обвиняемого и для моего деда, а также для себя, прокурора, и для обвиняемого Войцеха. Так получилось, что, сидя за дубовым прокурорским столом, я взял на себя труд, хотя как прокурор мог не делать этого, разместить во времени двух дедов и двух внуков. Когда умер мой дед, я был ребенком, а когда он потерял в банке свои марки, меня еще на свете не было, и я не мог ничего знать и ничего не узнал бы, если бы позднее, уже став подростком, не услыхал об этом от своего отца. Однажды отец подробно рассказал мне, как дед отдал эти марки, заработанные в Германии, в банк. Если бы он не отдал этих денег в банк, то мог бы купить превосходный клочок земли на угоре – на склоне холма, где ни дождь, ни засуха и никакая другая напасть не погубят посева. Он мог бы купить и владеть не двумя, а четырьмя моргами. И у него было бы четыре морга, не отправься он в тот памятный день в город и не отдай деньги банковскому служащему. Но он отдал, а ведь мог не отдавать и сразу купить эту полоску земли. Если бы он по необходимости отдал деньги в банк, ему было бы легче, но его не неволили. Страшнее всего было именно то, что его никто не принуждал, что он располагал свободой выбора. Десять лет он пролежал на спине под старыми железнодорожными вагонами, потому что ремонтировал подвижной состав. Никто не хотел за это браться, а он брался, потому что поле на угоре никогда не подмокало и не пересыхало. Он мог стать хозяином этого поля, но не стал и уже не будет им. Лучше бы вовсе не существовало этой возможности, но вся беда заключалась в том, что она была, и от этого помутилось у моего деда в голове. То, что в банке он сунул руку в карман, вытащил деньги и отдал их в кассу, – а мог не отдавать, – было хуже всего, из-за этого он и лишился разума. Дед смеялся и везде искал свои деньги: в бороздах на поле, на чердаке, взбирался на стропила в риге и шарил в соломе на крыше, ему казалось, что он их там спрятал. Он ускользал из дома во время грозы и ждал, когда сверкнет молния, чтобы при вспышке ее увидеть то место, где спрятаны деньги. Его больной мозг отказывался примириться с тем фактом, что он сам отдал деньги в банк и они там пропали. И у него родилась мысль, будто можно найти деньги, те самые деньги, на которые он хотел купить поле на угоре, мысль о том, что можно вернуть то время, когда он еще не отдавал этих денег в банк и мог купить на них два морга. Он кротко улыбался и говорил: «Ну, вот я и вспомнил, куда их спрятал». И тогда, счастливый, он бежал на своих тощих, скрипучих, как сухие сучья, ногах в дровяник или на конюшню, вытаскивал там мох из щелей или, согнувшись, искал под кормушкой; не найдя ничего, кроме пыльной паутины, он становился задумчивым до следующего приступа счастливого озарения.