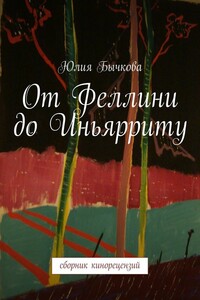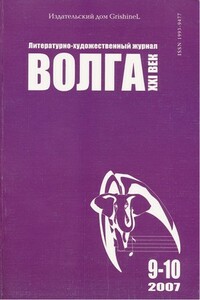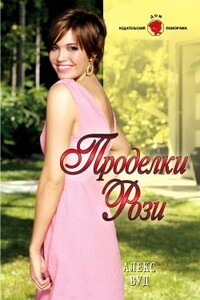С предисловием И.Е. Репина. Москва, 1915.
К.И. Чуковский усиленно впихивает в русскую литературу Уот Уитмена, американца, автора книги «Листья травы», — но, как сам сознается, — до сих пор безуспешно… Что говорить — поэт, ум, характер большой силы, яркости, живописности… Чуковский делает свою пропаганду с большим мастерством и написал об Уитмене книжку, которая читается с живою прелестью ощущения. Приложил к книжке несколько его портретов (превосходное, классическое лицо, борода, — «хоть кому на плечи»), дал снимок хижины, где он родился, снимок его почерка и среди своих похвал тонко вплел похвалы знаменитостей своему кумиру:
«Мудростью она выше всего, что доселе создавала Америка. Я счастлив, что читаю ее, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье» (Эмерсон).
«Ни Гёте, ни Платон не действовали на меня так, как его книга» (Symondus).
«Вы сказали слово, которое ныне у Самого Господа на устах» (в письме к Уитмену — Эдвард Карпентер, «которого так чтил наш Толстой», заманивает Чуковский).
И ко всему этому прибавляет сам:
«Вдруг и внезапно обнаружилось, что этот — дотоле заурядный сочинитель и едва ли талантливый плотник, — есть гений, пророк, возвеститель нового Евангелия. Но как же это случилось? Где, на каком Фаворе произошло его преображение? И кто возвестил изумленному миру, что явился новый Исайя?» (стр. 12-я).
Но в чем же дело?
Муза, беги из Эллады, покинь Ионию,
Сказки о Трое, об Ахилловом гневе забудь,
О скитаниях Одиссея, Энея.
К Парнасу табличку прибей:
— «За отъездом сдается внаем».
Все это хорошо, — но почему не прийти на ум параллели с Кузьмой Прутковым, который был тоже весьма дерзок и ядовит и авторитетами не стеснялся? Или, пожалуй, почему не припомнить в параллель «Энеиду наизнанку» и «Прекрасную Елену», от которых древности тоже «досталось»?
И такое же повесь объявленье
На всех итальянских музеях, на замках испанских, германских
И на Яффских вратах, на Сионской стене и на горе Мориа…
«Не надо ничего»; но уже это твердил нам старик Базаров, от которого по крайней мере русские давно выздоровели. Немножко объясняю этим Чуковскому, почему его пропаганда на Руси вяло прививается…
Что же нужно? Еще раз энергично повторяя себя, Уитмен высказывается:
Прочь эти надоевшие басни…
Прочь эти вымыслы, эти романсы, драмы дворов чужестранных,
Эти любовные стансы, облитые патокой рифмы,
Эти интриги и страсти бездельников
Годны лишь для балов, где танцоры кружатся всю ночь, —
Пустая забава, нездоровый досуг ничтожнейшей кучки людей,
С духами, вином и в тепле, при освещении свечек.
Муза! Я тебе принесу наше здесь и наше сегодня!
Пар, керосин и газ, великие железные пути!
Трофеи сегодняшних дней: нежный (?!! — В.Р.) кабель Атлантики
И Суэцкий канал, и Готтардский туннель, и Бруклинский мост!
Всю землю тебе принесу, как клубок обмотанную рельсами,
Наш вертящийся шар принесу.
(Из «Песни о Выставке».)
Вот в чем дело… Но опять это у нас, у русских, сказано в «Отцах и детях»: «Жизнь есть не храм, а мастерская», а балы, замки и красивую жизнь немногих послал «к черту» еще энергичнее наш Максим Горький. Для русских это решительно все — не ново.
Ну, а в универсальном смысле, в смысле «истины в самой себе», неужели не заметим мы как в природе, так и в человеческой жизни — действительно «в особенности прелестных», — прелестнее, нежели соседние с ними уголки, где, так сказать, песенка и сказочка сама собою завивается, поется и поэт, едва взглянув сюда, — мурлычет себе под нос рифмы, звуки, созвучия. Не человек «выдумал поэзию», а поэзия, конечно, была в природе, в жизни — и человек просто ее передал, без ломанья, без натуженного отрицания. Этого-то и не поняли ни Чуковский, ни Уитмен, который поет все сплошь:
Лягушка — шедевр, выше которого нет!
И мышь — это чудо, которое может одно пошатнуть шекстиллионы неверных.
Я не зову черепаху негодной только за то, что она черепаха.
Оттого, что ты прыщеват или грязен, или оттого, что ты вор,
Или оттого, что у тебя ревматизм, или что ты — проститутка,
Или что ты — неспособен
[1], - или неуч, и никогда не встречал свое имя в газетах, —
Ты менее бессмертен, чем другие?
То же и в отношении истории, исторических лиц и событий. Великое или скорее обобщенное, — «Все равно»…
Ты слыхал, что хорошо покорить и одолеть?
Говорю тебе, что пасть — это также хорошо,
Это все равно — разбить или быть разбитым!
Я стучу и барабаню, прославляю мертвецов!
Слава тем, кто сдался!
И всем полководцам, проигравшим сражение…
И несметным бесславным героям, как и прославленным — слава!
Ему, временами плотнику, временами наборщику в типографии, это действительно «все равно», — но вовсе не «все равно» народам, воинам, героям, которые все усиливались и, значит, усиливались к чему-то. Уитмен отрицает финальность истории, цели в ней, вообще — задачи человечества… И, стало быть, он отрицает труд? Ибо всякий трудится для чего-нибудь. Странно для рабочего и демократа. История без целей? История как сплошная современность? Базар, в котором мы умрем, и эта смерть так же случайна, как и самый базар? Так именно умер Уитмен, — и Чуковский, описывая и восторгаясь его похоронами «от велосипеда», не замечает, как это бесчеловечно и отвратительно.