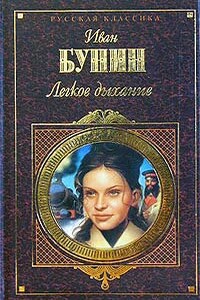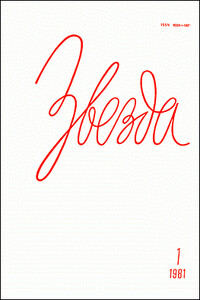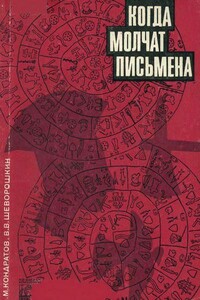Весною, год тому назад, я был разбужен продолжительным, неотступным звонком телефона. Вскочив с постели, я мельком заглянул в окно. Из моей мансарды открывался великолепный вид. Шпиц Адмиралтейства сиял каким-то молодым золотым сиянием. Зеленовато-синяя Нева плыла, как завороженная. В окнах дворцов пламенела уже ранняя заря. Я был рад, что меня разбудил телефон, так пленительна была картина.
— Кто? — спросил я сонным голосом.
— Говорит Броскин, от Мохрова. Немедленно приезжайте.
— Опять?
— И в тяжелой форме.
— Сейчас буду.
Я быстро оделся и вышел.
Воздух был удивительно прозрачен и прохладен. Редкие фигуры прохожих резко чернели на фоне весенних бульваров. На скамейке сидела парочка с бледными лицами и обведенными синевой глазами. В такую ночь только извозчики могли спать безмятежно. Я разбудил одного из них, и мы поехали по звонким улицам, казавшимся необыкновенно длинными.
Олимпан Иванович Мохров жил в собственном особняке на одном из каналов, на особенно красивой его извилине. Он был одним из тех многочисленных уже людей, которые ценят красоту невской столицы, и находил, что наши каналы красивей венецианских.
Я скоро подъехал к подъезду, в котором оставался незакрытым огонь. Этот фонарь, горящий за стеклами подъезда в то время, когда улицы залиты белым магическим светом, произвел на меня тревожное и отвратительное впечатление и сразу погрузил меня в болезненную атмосферу, которой окружал всю свою жизнь Олимпан Мохров.
Мне открыл дверь лысый старик с покорными глазами. Он достался Мохрову от его отца, полусумасшедшего помещика южных губерний.
— Всё благополучно? — спросил я.
— Так точно, — со вздохом ответил старик.
— Барин у себя?
— У себя в кабинете с доктором.
Когда я прошел в комнаты, я услышал, что старик говорил мне вслед:
— А зеркало-то! Зеркало! Старинного стекла — и вдребезги! Трах и готово! Сколько лет в него покойница барыня глядели!
Мне показалось, что старик даже захныкал. Пройдя столовую, я увидел, что чудесное, в резном орехе, зеркало разбито на куски, по-видимому, выстрелом из револьвера. Запах пороха еще сильно чувствовался в гостиной, к нему примешивался еще другой запах, противный, приторный, сосущий сердце, которым так часто пахло в квартире Мохрова.
Свет был дан маленький, голубоватый, из рук небольшой бронзовой нагой японочки, стоявшей в углу. Свет белой ночи давно заглушил электричество, и японочка светила очень беспомощно.
На диване в беспорядке валялись какие-то пушистые шкуры. Шитые нежными шелками подушки лежали тут же на полу.
Из кабинета доносился слабый, капризный голос Мохрова и усталый, но настойчивый голос доктора Броскина.
Я вошел в кабинет.
Олимпан лежал на диване, с мокрым полотенцем на голове. Меня поразила красота его головы в этом белом тюрбане, оттенявшем смуглую его кожу. Губы его были налиты кровью, большие синие глаза его выражали тупое отчаяние; он был бледен, с оттенком празелени на щеках и висках. Тонкопалая рука его была холодна и слаба.
Окна были открыты настежь. В них виден был канал, и слышался мелодичный стук сухих березовых поленьев, перебрасываемых с баржи на мостовую.
— Здравствуй! — сказал я как ни в чем не бывало. — Я ехал мимо, увидел свет в подъезде и заехал к тебе. Думал, гости.
— Напрасная ложь, — перебил меня Олимпан слабым голосом, — лгать можно, но так, как Уайльд. А ты лжешь хуже всякого Распе.
— Кто это Распе? — спросил доктор.
— Автор «Барона Мюнхгаузена».
— Ну, и это неплохая марка! — засмеялся я. — Скажи, как ты себя чувствуешь?
— Я рад, что ты приехал, хоть ты, может быть, и проклинал звонок, которым тебя разбудил доктор. Садись.
Я сел у дивана в кресло, которое мне уступил доктор.
Расспрашивать Олимпана я не хотел. Я знал, что если он в болтливом настроении, то он расскажет больше, чем хочет; а если он одержим мрачной немотой, то никакими силами не вырвешь из него слова. Итак, я сел и ждал. Доктор стоял у окна, любуясь каналом и прислушиваясь к музыке поленьев.
Стук дров что-то напоминал Олимпану.
Лицо его вдруг оживилось.
— Да! — воскликнул он, — это был удивительный оркестр. Мы неслись в Млечном Пути, в тесноте, в ослепительном свете. Нас окружали звезды из тончайшего стекла. Они все звенели. А когда мы нечаянно задевали одну из них, она лопалась с мелодичным громом и осыпала нас горящими осколками. Со мной была женщина в голубой шляпе. Я держал ее за руку, и это было сильней и жарче самой необузданной страсти. У нее были золотые волосы, она была прекрасна… У нее были огненные волосы, но я не могу вспомнить, кто она. Я никогда раньше ее не знал. Она была такая же стеклянная, как звезды, ее тело светилось изнутри, сквозь одежду, желто-розовым светом. Я держал ее за руку, за стеклянные пальчики. Мы неслись между звезд, и я тоже был стеклянный… Но я что-то забываю… что-то ускользает от меня. Доктор, вы здесь?
Броскин быстро подошел к Олимпану, взял пульс.
— Вы теперь, вероятно, уснете? — сказал он.
— Да, теперь я усну, — ответил устало Олимпан и протянул мне руку: Спасибо, что ты пришел. Ты умеешь слушать. Я теперь усну.
Глаза его закрылись, рука упала.
Через минуту он спал крепким сном.