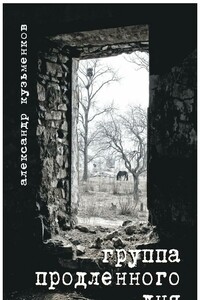Аннотация
Кузьменков Александр Александрович – прозаик, эссеист, литературный критик. Автор книг «Бахмутовские хроники», «День облачный», «Корабль уродов» и др. Печатался в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Волга» (Саратов), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Бельские просторы» (Уфа), «Урал» (Екатеринбург), «Новый берег» (Дания), издательстве «Franc-Tireur» (США). Лауреат международной литературной премии «Silver Bullet» (США, 2009), премий журналов «Урал» и «Бельские просторы» в номинации «Литературная критика» (2012). Живет в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.).
«Чтобы писать хорошую реалистическую прозу про сейчас, надо внятно понимать, где мы находимся, не зависеть ни от квазилиберальных, ни от квазипатриотических гипнозов: и у Кузьменкова все эти условия соблюдены. Он понимает, что мы живем на руинах. Он пишет густо, плотно, увлекательно… Мир у Кузьменкова дан подробно, наглядно, так, что пахнет, и что вдвойне ценно, он вызывает у автора не только омерзение, но и сострадание, в котором, правда, много здоровой злобы: что ты разлегся?! встань, вознегодуй, устыдись, соберись, сделай что-нибудь! Vivos voco – это к Кузьменкову приложимо полностью, и сама проза его, живая и энергичная, в меру сил противостоит распаду», – писал о нем Д. Быков.
Автобус двадцать первого маршрута приходил на Шанхай трижды в день, собирая редких пассажиров с единственной улицы поселка. Левый ее край упирался во вдавленный пустырь, похожий на неглубокую тарелку. Вокруг него рассыпались времянки, которые горисполком божился снести каждую пятилетку, а центр был обнесен железной решетчатой оградой. За ней стояли шлакоблочные корпуса психиатрического диспансера. Конечная остановка автобуса была в полусотне метров от больничных ворот.
Шанхайские представляли себе дурдомовскую жизнь лишь понаслышке, но те, кто шел на остановку из-за забора, большей частью знали, как оно бывает у дураков.
У дураков были голоса, которые нашептывают им гадости или, наоборот, комплименты; и свои уникальные теории, способные перевернуть весь мир; и страх, и тоска, и непонятная ноющая тяжесть на сердце, когда нет другого выхода, кроме как раздавить найденный аптечный пузырек и надрезать осколком предплечье, пусть немного боли, но зато потом – ничего, блаженное ничего; и совсем другое, когда все так легко, и ты всех любишь, и это взаимно, и так много хороших мыслей; и глухие, неясные намеки в разговорах вокруг, и по радио, и в газете; и стелазин, и галоперидол, от которых все тело костенеет, отказываясь подчиняться, и их не выплюнуть, потому что сестры каждый раз заглядывают в рот; и трудотерапия – оплетки для рулей и мыльницы с присосками; и аминазиновые инъекции; и крик привязанного в соседней палате. Вот как было у дураков, и этим жили восемь отделений больницы, разместившейся в четырех двухэтажных корпусах.
Наблюдалка во втором мужском была начисто лишена дверей. Мимо пустого проема то и дело сновал Саша Быков. Он день-деньской мерил шагами коридор, бормоча себе под нос: «Пло-пло-пло-плохо, плохо мне...» Время от времени Саша вынимал руки из карманов, плевал на ладони и принимался приглаживать остатки жидких волос на висках. Еще одного ходока все отчего-то звали лишь по фамилии – Трубников. Бывший штурман гражданской авиации тоже бродил по коридору с монотонностью метронома и клянчил у персонала градусник. Получив очередной отказ, он принимался измерять температуру своим фирменным способом, прикладывая руку то ко лбу, то к стене. В доску заебали, говорил Виталя с тяжелым вздохом. То же самое он повторял полушепотом, когда в наблюдалку заглядывали сестры: в доску заебали.
И в самом деле, публика в наблюдалке подобралась тихая, и в особом контроле никто не нуждался. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, вспоминал Андрей. Виталя, тот беспробудно квасил три дня, а на четвертый по полу квартиры забегали облезлые крысы с мерзкими голыми хвостами, то и дело норовя цапнуть за ноги. Виталя, перепрыгивая через ебаных грызунов, кое-как выбрался на улицу, но тут к нему привязалась противная черная собака. Он принялся швырять в кабыздоха палки и камни, а поскольку дело было возле ментуры, его повязали, не отходя от кассы. Поганая псина потом еще несколько дней приходила выть под окнами палаты. Корсаков, резюмировала сестра. Рузиль при ее приближении брался за спинку кровати: женщины были отрицательно заряженные существа, и рядом с ними следовало заземлиться, чтобы не нарушать обмен тонких энергий. Если под руками не оказывалось металла, он сплетал пальцы в сложную мудру: это тоже помогало, но хуже. А благотворнее всего на процессы энергообмена влияла, конечно же, прана, ее легко можно было выделить из пищи – скажем, поболтав ложкой в супе, чтобы по поверхности пошли пузыри. Блейлер, качала головой сестра. В дальнем углу, подтянув желтые костлявые колени к щетинистому подбородку, лежал на кровати голый безымянный бомж, которого недели две назад подобрали в беспамятстве на городской свалке. Трое пациентов наблюдалки старались держаться от него подальше: срал и ссал он, не поднимаясь с постели, ночью сам с собой вслух обсуждал дневные впечатления, и Виталя как-то раз не выдержал и швырнул в него тапком. Альцгеймер, вздыхала сестра, и было похоже, что светила психиатрии сами ебнулись умом и сидят где-то рядом.