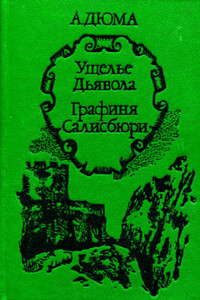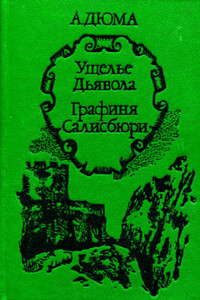25 сентября 1338 года, без четверти пять часов пополудни, бальная зала Вестминстерского дворца была освещена только четырьмя факелами, поставленными в железные ручки, которые были укреплены в стены по углам залы; неопределенный и дрожащий свет едва мог разгонять мрак сумерек, рано наступающих в это время года. Однако, свет этот был достаточен для того, чтобы служители дворца могли приготавливать ужин; длинный стол в три разные высоты был уже поставлен, и они спешили в этом полумраке разместить на нем самые лучшие вина и затейливые блюда того времени; каждая высота стола означала места особ, соответствующих их званию и происхождению. Когда все было готово, главный дворецкий вошел в залу из боковой двери, обошел медленно кругом стола и, уверясь, что каждая вещь была на своем месте, обратился к лакею, стоявшему у главных дверей и ожидавшему его приказаний, медленно, как человек, понимающий важность своих обязанностей, сказал ему: «Все в порядке, можешь подавать знак к столу»[1].
Лакей, взяв маленький рожок из слоновой кости, висевший на перевязи у него через плечо, подал знак тремя продолжительными звуками; в ту минуту двери отворились, пятьдесят слуг с зажженными факелами в руках вошли попарно и, разделясь, стали по длине обеих противоположных стен залы; за ними вошли пятьдесят пажей, из которых каждый нес серебряный рукомойник с лоханью; наконец, за ними два герольда, которые, став по обе стороны дверей, отдернули богатый занавес, украшенный гербами, и громко провозгласили: «Его величество король и ее величество королева Англии».
В эту минуту показался в дверях король Эдуард III под руку с Филиппою Ганаусскою, своею супругою, за ним следовали кавалеры и дамы, цвет английской аристократии, — они составляли их двор, двор, который в то время был самый блистательный в свете, по знатности происхождения, храбрости и красоте особ, его составляющих. На пороге залы король и королева, разделясь, пошли по обеим сторонам стола во всю длину его и, достигнув оконечности, заняли самые возвышенные, приготовленные для них места. Все придворные следовали их примеру и, разделяясь, по мере того, как входили в залу, занимали каждый свое место. Потом, обратясь к своему пажу, каждый из них умыл руки из серебряных рукомойников, без исключения, как кавалеры, так и дамы. По окончании этой подготовительной церемонии, все сели; пажи, поставив в шкафы, находящиеся по обеим стенам залы, рукомойники, стали подле господ своих для исполнения их приказаний.
Эдуард находился в такой задумчивости, что при втором только блюде заметил, что по левую его сторону одно место осталось незанятым и что недоставало одного собеседника на королевском пиру его. Медленно, не говоря ни слова, окинул взором всех присутствующих, богатые одежды которых, украшенные золотом и драгоценными каменьями при освещении пятидесяти факелов, блестели чудными огнями; взгляд короля остановился с невыразимо страстным выражением на молодой и прекрасной Алиссе Гранфтон, сидевшей между отцом своим, графом Дерби, и женихом Петром Монтегю, который в награду за отличные заслуги только лишь получил от короля графство Салисбюри, и потом Эдуард опять взглянул с удивлением на пустое место, сесть на которое почел бы за величайшее счастье всякий из присутствующих, но которое, однако, осталось незанятым. Этот случай, казалось, прервал нить мечтаний Эдуарда, потому что он вопрошающим взором окинул опять все собрание, но никто не отвечал ему. После чего, чтобы получить объяснение своему недоразумению, он обратился с вопросом к молодому знатного происхождения Ганаузскому дворянину, прислуживающему королеве:
— Не можете ли вы, Готье-Мони, объяснить, что за важное дело лишает нас сегодня присутствия нашего гостя и брата графа Роберта д’Артуа? Не попал ли он опять в милость нашего дяди, короля Франции Филиппа? А поэтому, может быть, поспешив оставить Англию, забыл даже и проститься с нами.
— Не думаю, ваше величество, — отвечал Готье-Мони, — чтобы его высочество, граф Роберт мог так скоро забыть, с каким великодушием король Эдуард дал ему убежище, в котором из опасения гнева короля Филиппа отказали ему граф Овернский и Фландрский.
— Я исполнил только мою обязанность, Готье; граф Роберт королевской крови и происходит от короля Людовика VIII, следовательно, это был долг мой. Впрочем, мне легче было дать ему убежище, нежели тем владетелям, о которых вы говорите, потому что, благодарение Богу, Англию труднее покорить, нежели горы Оверни и болота Фландрии; мы можем неустрашимо смотреть на гнев верховного властителя нашего, короля Филиппа. Но как бы то ни было, я все же желаю знать, что сделалось с нашим гостем. Не знаете ли вы, Салисбюри, чего о нем?
— Никак нет, ваше величество, — отвечал граф, — я не могу удовлетворительно отвечать на вопрос ваш; с некоторого времени глаза мои ослеплены блеском красоты одного лица, слух мой прельщен приятностью одного голоса, и это до того, что граф Роберт, несмотря на то, что он внук короля, мог бы пройти мимо меня, сказать, куда он отправляется, но я, вероятно, не приметил бы и не запомнил бы слов его. Но позвольте, ваше величество, кажется, этот молодой человек, который подле меня, хочет сказать мне что-то, относящееся к графу.