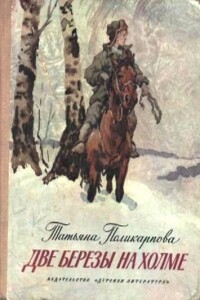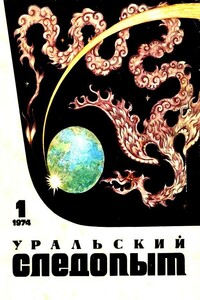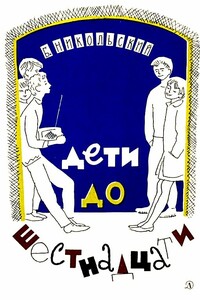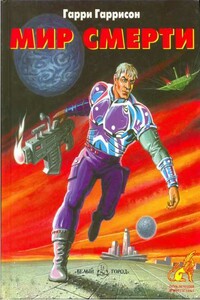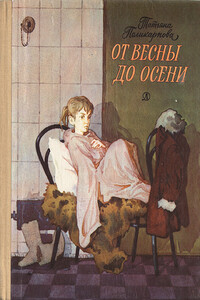Новая школа — это каждый раз как новая планета. Ты ступаешь на ее землю и не знаешь, кто тебе тут враг, кто друг. Вообще неизвестно, что за племена здесь обитают. Какие у них законы и привычки, чего здесь надо особенно опасаться.
А для меня не только школа новая начиналась — в пятом классе вообще все новое: и предметы, и учителя. Но и этого мало. Само село, где эта школа и этот пятый класс находились, было чужим — Пеньки.
Все совхозные ребята, кто собирался кончать семилетку, ходили в Пеньковскую школу: в совхозной-то было всего четыре класса.
Теперь эта новая Пеньковская планета бушевала вокруг нас, совхозных. Нам так и кричали со всех сторон: «Совхозные! Совхозные приехали! Новенькие есть!»
От волнения, от того, что никогда еще не видела сразу так много незнакомых ребят, я не могла уловить, запомнить хоть какие-то лица: они мелькали, похожие и разные, вокруг меня, я даже не пыталась всматриваться, все силы свои собрала, чтоб сохранять на лице достойное спокойствие, чтоб не обнаружить, как мне страшно и одиноко. Все старшие ребята из совхоза, наверное, разбежались по своим классам, а моя подружка Зульфия болела, и первого сентября ее не было с нами. И чувствовала я себя в кутерьме чужого веселья такой заброшенной и маленькой, как, наверное, может чувствовать себя щепка или соломинка в бушующем море.
И, только утвердившись на своем месте за партой, словно на крохотном, но хоть твердом островке, защищенная сзади ее спинкой, а спереди довольно просторной крышкой, уперев ноги в надежно неподвижную перекладину, а локти в столь же надежную столешницу, я как бы вернулась сама к себе: «Чур меня, чур! Я вне игры!» — зачуралась на время урока. Магический круг безопасности очертил вкруг меня звонок. Наконец-то все эти текучие, изменчивые, переливчатые лица, мелькавшие у меня перед глазами до звонка, теперь устоялись над партами, перестали дробиться и можно было их рассмотреть и запомнить, хотя бы те, которые я видела со своего места, — оборачиваться я не решалась.
Но только мой взгляд скользнул вдоль голов, чтоб произвести разведку: кто — что, кто — какой, какие все, — как мгновенно его перехватили. Над классом витал глаз нашего учителя. Это было так ужасно, что сердце на миг во мне остановилось! Учитель русского языка, он же директор школы, смотрел в журнал — он только начал читать список фамилий: один его глаз был опущен к столу — он же читал! — а второй — смотрел прямо на меня! Смотрел на класс!
Мало того, что учителя звали необычно — Мелентий Фомич, он еще имел, как в сказке, недреманное око!
Я так и сидела — застыв, не увидев ни одного лица, — пока он не назвал моей фамилии. И она так страшно отчужденно прозвучала в чужой комнате, для чужих ушей, произнесенная чужим человеком с неслыханным именем и с невиданным глазом. Я встала за партой, внутренне окоченев.
Так Хома Брут в «Вии» окоченел предсмертно, обнаружив себя для всех под указующим пальцем Вия: «Вот он!»
— Вот она, Плетнева! — грохотало у меня в ушах, хотя я уже давно сидела в своем убежище и ничьи когти и зубы не тянулись ко мне. А несколько круглых белых пятен — лиц, обернувшихся на мое вставание, — оборачивались уже к другим, кто подымался на голос учителя. Я просто физически сейчас ощущала, видела глазами других свое круглое, голое лицо. Так мне казалось оттого, что сегодня впервые мои отросшие за лето волосы заплели в две косички. «Нехорошо, — сказали мне, — все здесь с косичками, а ты придешь в локонах».
* * *
Так погибла моя красота, которая только в это последнее лето начала было меня утешать. Обычно меня стригли коротко. Волосы росли прямые и жестковатые, папа говорил: как лошадиный хвост.
Я никак не могла понять, что у меня за лицо — ничего себе или совсем отвратительное. Когда дома никого не было, я простаивала перед зеркалом, забывая о времени, о делах, о книгах. Я рассматривала свое лицо, пытаясь обнаружить в нем хотя бы следы красоты, описанной в моих любимых книгах. Нет! Ни огромных, как лесные озера, глаз Ревекки из «Айвенго», ни прекрасно-бледных щек синьоры Боллы из «Овода», ни золотистых, как свежая стружка, и длинных, как водопад, волос Золушки не было у меня. И нос мой был хоть и прямой, но какой-то толстоватый, а щеки и вовсе круглые, а глаза совсем светлые. Только и радости что длинные ресницы, загнутые вверх, как у всей папиной родни. А волосы — просто гладкая челка. Довольно темная.
«Да уж, — думала я, созерцая все это в зеркале, — чего уж тут и смотреть! Одного взгляда достаточно. Но почему же тогда я не могу оторваться от своего лица? Нет, я его не люблю. Это точно. Но почему, почему так притягивает меня зеркало? Почему это неказистое отражение, эти глаза, и лоб, и щеки — почему это я?» Смотрели на меня в упор светлые спрашивающие глаза. Глаза в глаза: это я? Это ты? Где я и где ты? И кто ты?
Плавало лицо в голубой глубине стекла, в бездонной, ловил взгляд: не появится ли там прекрасный образ незнакомки? Нет, все то же надоевшее и ненаглядное мое лицо.
И вот когда перед пятым классом впервые летом меня не подстригли, как обычно, волосы отросли и изменили свойство. Вдруг пошла по волосам волнистость. Пряди надо лбом посветлели — выгорели, что ли? Чтоб они не лезли в глаза, бабушка собирала их с висков и надо лбом и заплетала в косичку. Она толстой колбаской лежала на затылке, а вдоль лица вились свободные, незаплетенные прядки. Они светлели и становились пушистыми. Над головой стоял светлый венчик. Щеки поэтому казались не такими уж круглыми. Конечно, лицо мое не изменилось, но хоть как-то украсилось.