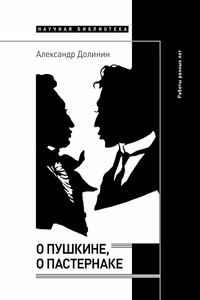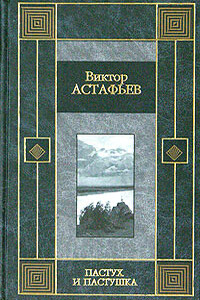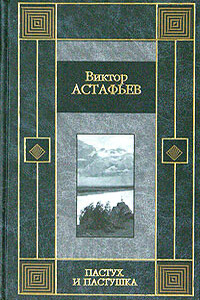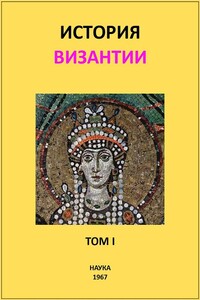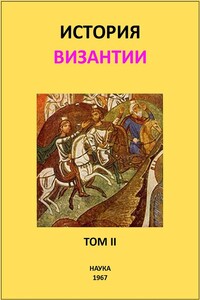Два рождения европейского рационализма и простейшие реальности литературы
В кн.: Человек в системе наук. М., 1989, с. 332-342
Сравнивая античность с культурной системой средневековья, я остановлюсь не на разнородности, не на контрасте между этими системами, а на их однородности.
Средневековье, разумеется, само по себе гомогенно, но оно не могло обойтись без схоластики в широком смысле слова, без дефиниций и силлогизмов и это уже напоминает нам, до какой степени средневековье продолжает античность в его решающем пункте. Ведь откровением Божества для средневековья была Библия. И все же в Библии Ветхого Завета вообще нет ни дефиниций, ни силлогизмов. Да и в Новом Завете существует единственная дефиниция дефиниция веры в Послании к евреям. А любой средневековый мистик не может обойтись без дефиниции, без того, чтобы определять предметы, о которых он говорит.
И в этом очень решающем пункте средневековье приближается к античности и продолжает античность, перенося парадигмы аналитического мышления на самые неожиданные для нас, а если смотреть из античности не столь уж неожиданные предметы, потому что языческая античность в неоплатонизме уже применяла аналитическую технику мысли также и к мистическому содержанию.
В названии статьи есть слово "рационализм". Мне бы хотелось как можно резче отделить это понятие в пределах моего материала от других понятий, прежде всего от понятия рациональности как свойства гомо сапиенс, от рассудочности и разумности, присущих еще гомеровскому Одиссею, потому что мне представляется чрезвычайно важным, что переход от рациональности к рационализму, т.е. от неформализованной рациональности к формализованной, от разумности как свойства гомо сапиенс к формированию техники самопроверки мысли, когда существуют такие вещи, как гносеологические проблемы, правила логики и т.д., что переход этот никоим образом не плавный и не может быть описан как эволюция. Вот пример. Слова не становятся терминами, так сказать, незаметно для самих себя и для говорящих людей, просто в ходе постепенного приращения человеческих знаний и усиления умственной активности. Переход от дорефлективной рациональности к рефлективному рационализму, к формализации, которая разрабатывает для себя искусственные нормы. правила и приемы самопроверки, очень бурный, сопровождающийся физическим шумом: шумом скандалов, который сопутствует деятельности софистов в Греции. Когда мы читаем Аристофана, мы чувствуем, до какой степени греческий человек с улицы воспринимал как скандал инверсию мысли, ее обращение на самое себя. Человеку естественно думать обо всем, что перед ним, над ним, под ним, в нем в конце концов, но не о самом мысленном процессе.
Для того чтобы перейти к мысли о мысли, т.е. к рационализму, для этого человеку надо сделать качественно иной шаг. Все мы, вероятно, помним, как трудно дается школьнику переход к дефинициям, к тому, чтобы описывать предмет в формах дефиниций, а не в каких-то иных, каковы, например, нагромождение эпитетов, описание того, как вещь действует (нож это когда режут, передразнивал наш учитель физики, когда ему пытались подменить дефиницию названием действия). Но именно так описывает, например, любовь апостол Павел в 13-й главе 1 Послания к коринфянам. Он нагнетает глаголы любовь делает то-то и не делает того-то; любовь это реальность, которая проявляется в таком-то действии. Вроде бы естественный способ описывать. Наоборот, любой средневековый теолог Запада скажет, что любовь есть virtus infusa (добродетель сверхъестественная) и в этом пункте видно, как далеко средневековье отходит от Библии. Видно также, насколько необратим этот переход через пропасть отделяющую мышление "естественного" рационального человека т.е. мышления в метафорах, в аналогиях, в сравнениях, в антитезах, через описание способа действия, через нагнетание эпитетов и т.д. от рационалистической рефлексии. Сделать этот переход очень трудно, но когда он сделан, пути назад нет, и создается культура, которая имеет совершенно иные способы себя воспроизводить, чем культура дорационалистическая. Любая дефиниция это словно жесткое семечко, из которого всегда будут вырастать деревья, приносящие плоды, наполненные новыми семечками, новыми дефинициями.
Мне кажется важным, что до тех пор, пока в культуре не существует готовых, заимствованных от предыдущих эпох терминологических систем, плавного перехода от обиходных слов к терминам нет. Я писал об этом в статье "Классическая греческая философия как явление историко-культурного ряда": необходимо некоторое промежуточное состояние состояние слова, которое возбуждено, как бы перегрето и, таким образом, сделано пластичным. Такой пластичности оно не может иметь ни в качестве бытового слова, ни тем более в качестве устоявшегося термина. Бытовое слово не имеет фиксированности, присущей термину, но оно в своем роде фиксировано, имеет свое место в жизни, а для того чтобы слову стать термином, ему с самого начала надо выскочить из своей ячейки, со своего места, ему надо сдвинуться с места; необходимо, чтобы была какая-то лексика, особенно избыточно насыщенная метафорой; лексика, в которой каждое слово готово даже без особой нужды стать метафорой (это мне кажется крайне характерным для платоновской прозы). Этого перевод до конца передать не может; только в подлиннике мы чувствуем, как много у Платона нереализуемых в дальнейшем попыток игры с дополнительными смыслами слова или с фонетическим сближением слов наподобие того, как это в нашем мире существует в поэзии, хотя бы у Пастернака, да и у любого серьезного поэта XX в.