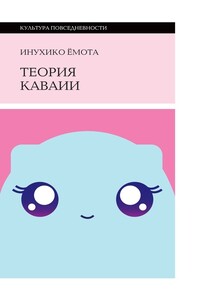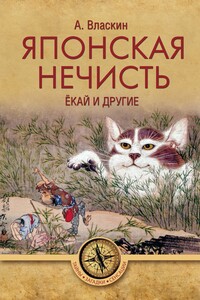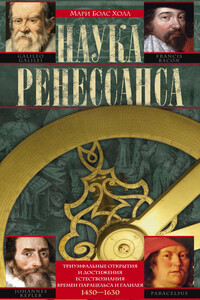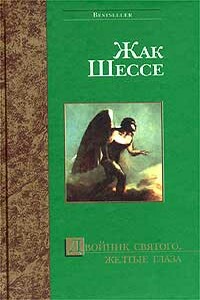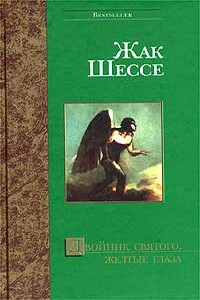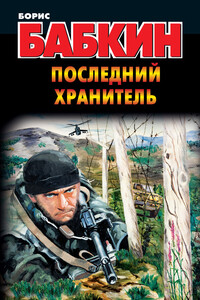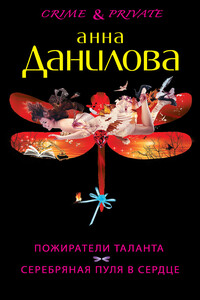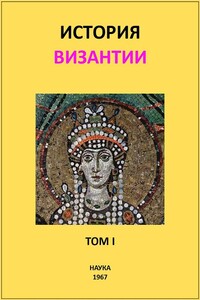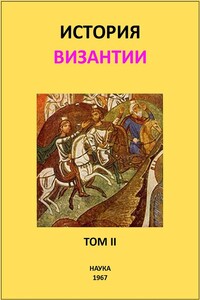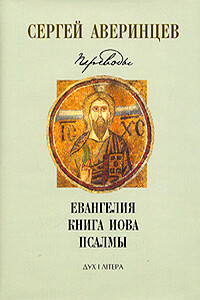К истолкованию символики мифа о Эдипе
Филологи, философы и поэты разных эпох усматривают в трагедии Софокла "Эдип царь" не просто исключительную литературную удачу, но, что особенно важно, поэтическую реализацию смыслового содержания целой эпохи.
Задача статьи состоит в том, чтобы выяснить хотя бы отчасти те смысловые сцепления, с которыми Софоклу пришлось работать как с наличной предпосылкой символической структуры трагедии. Все привлекаемые для прояснения вопроса параллели относятся к миру классической древности. С другой стороны, однако, в пределах этого мира мы позволяем себе передвигаться совершенно свободно, ссылаясь на авторов самых разных эпох от Гомера до Прокла; эта вольность оправдывается и, более того, предполагается постановкой вопроса. Было бы весьма странным предполагать, будто конкретное наполнение рассматриваемых символических схем оставалось одним и тем же в архаическом мифе и в классической трагедии, в греческой философии и римской жизни. Разумеется, нет; эти схемы переосмыслялись. Но чтобы возможно было переосмысление, надо, чтобы было чему переосмысляться: стабильная смысловая основа, смысловая матрица, заданная языком и простейшими символическими системами самой жизни. Задача истории культуры - исследовать переосмысления: но нужно же когда-нибудь посмотреть, чтo именно переосмыслялось.
Сам Софокл называет фабулу мифа об Эдипе "парадигмой" некоего общего закона (1193): всякая удача есть всего лишь видимость, и для этой видимости, излучающей ложный блеск (корень ??? как двуединство "славы" и "видимости"), неминуемо придет время "закатиться", как заходит светило. Такова судьба всякого человека.
Что такое судьба Эдипа? Она слагается из двух моментов - бессознательно совершенного преступления и сознательно принятого наказания. Ибо Эдип - преступник бессознательный: это выражение благоразумно предпочесть таким распространенным формулам, как "безвинный преступник", "преступник против своей воли", "преступник по воле случая" и т.п. Конечно, Эдип не ведает, что творит, но неведение его отнюдь не абсолютно. Он был предупрежден неприятным инцидентом, побудившим его отправиться в Дельфы, что Полиб и Меропа могут и не быть его настоящими родителями; он был предупрежден самим дельфийским оракулом, что ему грозит участь отцеубийцы и кровосмесителя. После таких предупреждений можно было бы отнестись к женитьбе на женщине, по возрасту годящейся в матери, с несколько большей осторожностью. Но в то то и дело, что Иокаста - не просто невеста: в ней награда за подвиг отваги и мудрости, в ней - слава, в ней - власть над Фивами. Всем этим бессознательный характер Эдиповой вины отнюдь не отменяется, но вина эта перестает быть пустой бессмысленной случайностью. Пока он - герой и пользуется привилегией героя - совершать "деяния", его деяния оказываются слепым и пассивным претерпеванием; лишь тогда, когда он становится из героя страдальцем, его страдание есть первое сознательно совершенное дело. Чтобы прозреть, ему нужно ослепить себя. Такова в предварительном наброске ироническая перспектива преступления и наказания Эдипа.
Начнем с преступления. Оно двусоставно, двучленно: отцеубийство и кровосмешение. Однако в своей двучленности это все же именно одно преступление, а не два разных преступления, по игре случая совпавшие в судьбе одного человека. В перспективе Эдиповой судьбы отцеубийство - лишь предпосылка инцеста; Лай - соперник, устранение которого необходимо для того, чтобы кровосмесительная свадьба могла состояться. Для античного восприятия смысловым центром был именно инцест. Брак с матерью имеет в знаковом языке античной "онирокритики" (снотолкования) четко фиксированный смысл. Разбирая так называемое Эдипово сновидение, Артемидор замечает: "это хороший сон для всякого народного вождя и политического деятеля; ведь мать означает отечество. Человек, имеющий соитие с женщиной, которая отдается послушно и по доброй воле, согласно закону Афродиты властвует над ее телом; так и сновидец овладеет всем составом государственных дел (Onirocr., I,79,91-92). Артемидор зафиксировал традицию, восходившую к начальным временам греческой культуры. По свидетельству Геродота (VI,107), такой сон видел тиранн Гиппий в 490 г. до н.э. По свидетельству Светония (Сaes., 7,2), - Юлий Цезарь. В "Государстве" Платона рассматривается тип тиранна-узурпатора. По мнению Сократа, тиранн живет как бы во сне; освободившись от связующей силы общего для всех закона, он попадает в ситуацию полной вседозволенности и безответственности. И вот в таком-то контексте Платон вспоминает сновидение, повторяющее как раз грех Эдипа! Оказывается, что жизнь "тираннического человека" есть аналог именно такого сна, в котором "ничто не мешает смеситься с матерью" (Resp., IX, 571d).
Итак, мотив инцеста с матерью был символически сопряжен с идеей овладения и обладания узурпированной властью. Но он выявлял связь не только с символикой власти, но и с символикой знания, и притом знания сокровенного, запретного. Еще в сочинении IV в. до н.э. утверждалось, что обычай персидских магов обязывает их сходиться с собственными матерями и дочерьми, - а ведь речь идет о тех самых магах, которых Цицерон именует "родом мудрецов и наставников" (De div., I,23). Кровосмешение запретно и страшно; но ведь тайны богов тоже запретны и страшны.