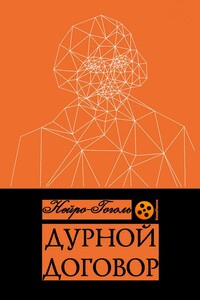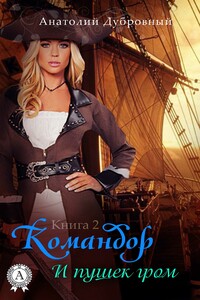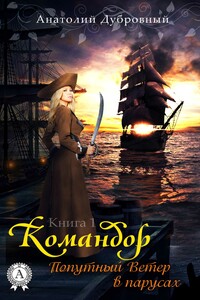Жил в селе пекарь: возле церкви, близ церкви Иоанна-Галеевского (она была большая, церковь). Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что за время обмелели или, лучше сказать, совсем потухали последние ее свечи. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком.
Харитон приходил в церковь и становился обыкновенно около дверей. Многие из них были заперты, прочие двери с замками и малеваниями поминутно открывались и показывали, что там никого нет. С другой стороны двери в двери глядели несколько бесцветных взглядов света, как будто бы в них не было огня.
Он вспоминал о красавице жене своей, хорошенькой, и к ней, казалось, уже чересчур привыкнуть нельзя. Ах, как было бы хорошо провести эту ночь вместе с нею. Но увы! Увы, покамест, вместо сего, грезит мысль о ней, как будто об одной только внезапной, временной помощи, и тайная тихая грусть подступает к нему. «Экая судьба!» — подумал про себя Харитон и, пришедши к себе в комнату одеться и лег в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец, пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкой сон. Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее! Мою милую супругу, которую я еще недавно держал в своих объятьях. Но занемогла она родами дочери, и нет больше моей милой, без которой, может быть, и не будет никогда ничего. Сердце мое только так и ломается от горя.
Был он мужчина небедный и не старый в самом деле, но остался один, не могши перенести потерю жены своей, как бы потерял теперь свою волю, по крайней мере, так, как был прежде.
Пить начал было сильно, и почувствовал, что должен пить, потому что иначе жить не захочется. Без женского пригляда и хозяйство, и порядок, и все, что следует, все это облеклось в тишину, бездействие и дым. Даже в булках и пирогах его можно было отыскать, если только случалось, всякие гадости: что-нибудь вклепывается вроде таракана, да в ином месте клок волос, ну, а в другое время, бог знает, что было бы. Может быть, и по миру бы пошел; а может, еще и хуже. Чорт его знает, как оно дошло!
Старушка мать взмолилась — как же ей, мол, без него внучку растить — не сумеет и сама скоро помрет; и так укоризненно покачала головою, что не можно было ободрить ее.
Пошел он к человеку недоброму, якшающемуся с нечистью, о котором говорили, что колдун, нечистое делал и злобное слово читал, да читал и свои кривые слова. Да уж, точно, хотел было тот оборот, о котором говорит нам, взять из той церкви живых людей, так как всех людей к черту не берет нечистая сила, да и заставил, говорит, Христа с самим дьяволом. О чем говорили с чертом — неизвестно, право, не знаю… Но после этого его как подменили. Теперь он стал поправляться, пить перестал, и заниматься важными делами продолжил на прежнюю ногу. Пироги стали еще лучше, нежели прежде, и хлеб, и пряники, и всякие такие чудеса, которых так и не найдешь во всем околотке. За ними приезжать стали — почему ж не проездиться? Из самого Киева заказывали! На Сорочинской ярмарке все норовили вкусностей приобресть, пряников маковых, и еще многого, что у него есть. Басаврюка все конечно страшились и знали, что всяк, кто бы ни был с ним сведен на какое-нибудь злодеяние, пожалеет о нем; но, к чести нашей сказать, этого никто не умел сказать на этот раз. Харитон вроде не изменился, зато такой, можете вообразить себе, веселый стал, белобородый с виду, богатый, нарядный: и по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем: как делишки, что и как.
Прошло 15 лет. Выросла красавица Мирослава, с золотистыми волосами, с очаровательно круглившимся овалом лица, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бровями. Стал к ней свататься молодой казак Левко Вершина; а она была бы только готова к тому. Был он парень статный, с звонким, живым выраженьем глаз и целым вихрем бурных, курчавых волос. Но добра у него было всего ничего: знатный конь да сабля отцовская. Мирославе он был люб, да и Харитон к нему относился как к родному, и ежели был на то воля божия, то назвал бы его сыном: ходили с его отцом по молодости в походы на ляхов да рубили турков.
Мирослава и Левко признались друг другу в любви и верности, которые хранятся в душе своей и хранят вечно в сердце своем. Мирослава сказала, что выйдет за него замуж, если только отец не станет против этого союза.
Радостный, Левко пошел к Харитону, чтобы испросить благословения на замышленные им подвиги. Да только что он получил такой ответ, что не ожидал никакого ответа. Отец разозлился, и его уж и слушать было нельзя. «И ты смеешь говорить, что тебе приспичило? — вскричал он. — Знай, что и ты, собачий сын, не меньше меня, как петуха, будешь знать, что такое хорошие девки! А ты же — ни кола, ни бугу, а я тебе в рожу еще наплюю!» — кричал он, махая руками, притопывая ими так, что бедный Левко чуть не плакал. Потом каялся, говорил, что Левко хорош, но он не достоин для такого дела, и не позволит ему сделаться самому хозяином. Да и рано девке: лет семнадцати нет еще, еще дитя, ничего не знает, ни телом, ни душой. Еще бог знает чего не наговорил! Выгнал его, скалкой, и сказать стыдно… А у самого сердце так и колотится! Видно, что любит свое дитя, аж душа стонет вся, якшно страшно, но не может дочь отдать в руки к Левко.