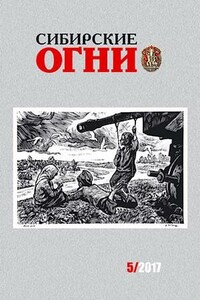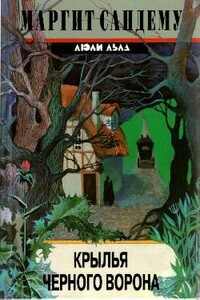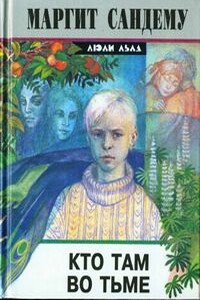Феликс
Евгеньевич Максимов
Духов день
Глава 1
В году одна тысяча семьсот
семьдесят первом третий Спас наступил в срок.
На зеленых горах простые
холсты не растягивали.
Синие молдаванские сливы,
вязкий черемуховый плод, кайсацкий кизил растоптали сапогами на мостовой.
Привозного и своего торга
совсем не стало. Пустынно на Москве. Сквозь ясеневые городские рощи встала на полсвета
Успенская синева. Высоко-далеко.
Сулемное солнце опрокидывалось
в слободы и сады так быстро, словно и не вставало.
Ртуть в старое время
отравой не считали, давали играть на блюдечке детям, пусть посмотрят, как вертится,
прикоснутся, зла от опасной забавы не видели.
Девичий виноград в Донском
монастыре налился кислым соком докрасна. Сам собой распустился по палисадам паслен-бессонник,
сорный свирепый цвет. Из львиных следов пророс без спросу. Львиными ногами посетил
Москву Господь. Седьмую неделю длились бездождье и засуха. Росли на востоке ярусами
немилостивые медоносные облака. Рассеивались впустую в сумерках. По косым улицам
писали городскую линию слепые, совсем деревенские плетни. Высокие заборы, посадские
ворота, крыши - высоко вырезаны на скатах восьмиконечные кресты от сглаза. Москва
по высям крыта тесом, лубом и соломой.
С креста на крест, со
стрехи на стреху, с версты на версту просяным семенем растратился август.
Колодцы на перекрестках
заколотили досками.
Осы расплодились в подвалах,
заселили испод Москвы, зудели на румынские голоса. Кусались. В августе всегда являлись
морильщики - ярославцы. Они усыпляли ос особым подкуром, гнезда собирали в мешки
про запас. Бумажные перепонки, осами из себя сотканные, нужно разделить, как слюдяные
пластинки, в сыворотке вымочить, на пару подержать, распялить всухую, получится
осиная грамотка с непростыми письменами. Осиные соты на тонкие дела годятся - если
класть под невестину простыню - станет что ни год приносить сыновей.
Больше морильщики не
ходят. Забыли нас. Боятся. Неусыпные осы застывали на весу горстями.
В субботу по улице меж
Земляным Валом и живым Крымским мостом торопился мальчик-гимназист. Разночинный
зябличий сюртучок скинул впопыхах на плечо. Всем такие знакомы - штатские солдатики,
родительские сироты государыни. Долгие полы малинового сукна, голубые обшлага, небесный
кант, два ряда больших медных пуговиц на груди. На туго причесанной голове - поярковая
треуголка. Плясали по соломенному настилу - балясинки - белесые чулки с кострой.
Некрасивый. Губы обветрились, треснули заеды в углах. Слизнуть коростку недосуг.
Мусолил ситник в кулаке. Укусить недосуг. За пазухой у гимназиста - свернутая ведомость,
осиная серая грамотка в семь листов. Пролистать недосуг.
На улице десять ворот
- все досыта распахнуты. Выползли из московских плесневых поднорков всякие. Лица
наизнанку, съеденные. Стояли по двум сторонам улицы хозяева, бабы, старики, подростки.
Ждали. Поджимали пустые рты, насильно кутались в серое. Смотрели вслед. Окликали
гимназиста обыденными голосами:
- Дитя, дитя, сколько?
Мальчик летел с прискоком,
всем отзывался:
- Шестьсот! Шестьсот!
Люди быстро крестились
и говорили про себя:
- Слава Богу.
Накануне тот же гимназист
- отвечал "семьсот", а третьего дня - восемьсот.
У него всякий день за
пазухой, за обшлагом или за пояском - осиная ведомость - в семь, а то и в десять
листов. Отец приказал ему доставлять от старшего брата, письмоводителя в Серпуховской
полицейской части, поименную записку о ежедневной городской смертности.
В августе покойников
на всей Москве, согласно реестру, вышло восемь тысяч душ. В сентябре хватит за двадцать
тысяч, в октябре - восемнадцать, в ноябре, когда подморозило - всего шесть тысяч.
Обыватели убирались во дворы. Запирали створы и ставни. Мостовые пустели. Редко
по бревнам, по убитой соломе, по ослиным тропкам через открытые ненароком дворы
трусил рысцой полицейский, которому вверили досмотр - всюду ли, согласно приказу,
разожжены постоянные костры. Всюду.
На минувшее Рождество,
фабричный привез на Большой Суконный двор неизвестную женщину с малолетней девочкой
- вроде как дочкой, а может падчерицей или приемышком. Сукновал взял их с собой
в город из милости, одеты они были по-деревенски, ничего не смыслили. Плакали. Кланялись
за корочку.
Женщина жаловалась на
сухость во рту, жар и ломоту в суставах, показывала всем, кому ни попадя желваки,
набухшие за ушами. Говорила, что тем же Бог наказал подмышками и в стыдном месте.
Девочка посматривала
на больную бабу, и на первых порах молчала. Личико и тело у нее были чистые, как
яичко. Голова повязана косынкой на церковный лад концами назад. Черная косынка в
крупный белый горох. Фабричные жалели их - пускали под кашеваренные навесы, клали
спать с собою в семейных бараках у Каменного моста, и, просыпаясь среди ночи - слышали,
как девочка бесконечно клянчила:
- Теточка, теточка, пойдем
домой...
А баба в ответ:
- Молчи!
Больная часто вставала
пить, слонялась у общих бочек близ суконных мастерских. Брала мировые черпаки, хватала
руками квашенину из кадушек, помогала другим бабам-суконщицам стряпать, всюду лезла.
На четвертый день желваки лопнули и начали гноеточить. Баба бредила, не вставала
до вечера.