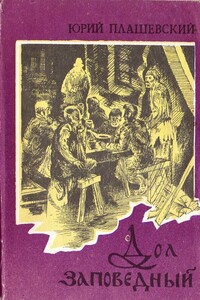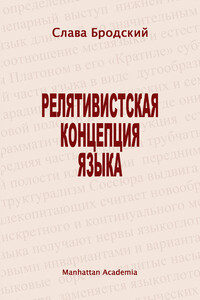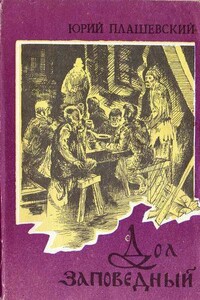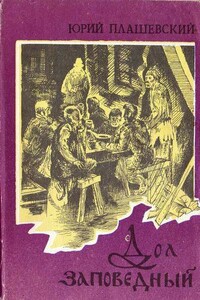I. Беседа за вином и рыбой
На Святой Руси было.
Сидели раз, поздним летом, при царе Иване Васильевиче, при Грозном, — за Окой, у Суры-реки, на проезжем дворе, под вечер, проезжие же разные люди.
Сидели, по летнему, значит, по теплому времени, на воле, на лавках, за дощатым столом, врытым в землю. В сумерках видна была поодаль изба и стоявшие возле нее расседланные лошади, и слыхом слыхать было, как вздыхали и всхрапывали, и подброшенное в яслях ворошили сено, и хрупали его, и дух оттуда шел приятный, конский.
Баба-стряпуха, молодая и в теле, готовила рядом на летней печке всякую снедь и носила, ставила тем проезжим на стол миски с едой и жбаны с пивом. Посередине горел на столе глиняный светец, и поверх у него качался красный язык, освещая носы, лбы, бороды, губы. И глаза блестели красно, играли, отражая пламя.
Пиво пили жадно. А у которых были еще с собой сткляницы с вином, и они его наливали в чарки, и перед едой прихватывали.
И вот, хватив раз этак чарку, один толстый отдулся, очистил зубок чеснока, со смаком, с хрустом его сжевал, крякнул, потянул ложкой горячую уху из миски, потом оправил усы, бороду, заговорил басом, тихо:
— Был я на Москве. Москва хороша, красна. И видел там — казнь.
После тех его слов было за столом некоторое молчание, а затем другой, насупротив, худой и носатый, прожевав пищу, сказал, будто укоряя:
— Был, значит, в раю, а видел — беса.
— Это как же так, и почему — беса?
— Потому, что когда людей казнят, мучают, это бесу — в радость.
Первый, то есть толстый, принялся сказанное обдумывать. Опять взял чеснок, стал грызть.
Тут вмешался третий, с бородавкой на носу:
— Смотря какие люди.
— Это почему — какие? Человек, он и везде человек.
— Потому. Иной, верно, — человек. А иной — на себя напускает: едет, говорят, дядя из Серпухова, бороду гладит, а денег — нет.
Толстый перестал жевать, сказал:
— Это ты к чему? Про меня, да?
— Почему — про тебя?
— Так я ж еду? Или нет?
— А откуда едешь-то?
— Ну, из Москвы. Или не слыхал?
— Так не из Серпухова ж.
Толстый погрозил пальцем:
— Знаем вас… — и замолчал.
Опять стали уху хлебать. А они хороша была, из монастырской, озерной рыбы.
— Ну, так что там за казнь случилась? — спросили с другого конца, из темноты. И слышно было, что вопрошавший пил пиво и крякал, а спрашивал более от скуки.
— Казнил царь на Красной площади которых ближних своих. И которых казнил, самые те вышние и были.
— Ах, ах, — заахал худой, носатый, — чего ж это царь-государь на них гневом опалился? Измену выводил? А как иные те возвысились?
— Высок репей, да черт ему рад!
— Воровские те слова!
— А почему?
— Так. Много-то стало таких губастых, разговорчивых. Стерьвы! Чужую крышу кроют, а своя в дырьях…
Опять зачавкали, загребая ложками рыбу, запивая ее из жбанов пивом.
Тут в черед нарушил молчание мужичонка с бородой, что мочало:
— Ворыга один боярина украл, в сказке рассказывают, да в кошель положил, да у церковной ограды кошель на ворота повесил. И к воротам два прута черемуховых поставил. И на воротах написал: кто мимо пройдет, да не стегнет по кошелю три раза прутом, да будет тот трижды, анафема, проклят. И все мимо идут и дерут по трое прутом боярина в кошеле!..
Сказал и — задребезжал, засмеялся в удовольствие.
— Про бояр бездельные слова лаешь, — загудел толстый. — На глаголь, видно, сам, своей волей лезешь, да? И сам-то во всем драном, а смел!
— На глаголь? Это что? Это, значит, на виселицу? Ну, нет… И под дырявой шапкой голова живет.
— Цыц!
— Чужими грехами свят не будешь!
— Чего?
— Того!
— Где я лисой пройду, там куры три года не несутся. Знай!
— Видали и мы. Не пужай! Пужал бы ты кого в чистом поле! — начал вдруг мужичонка брызгаться слюной, трясти своей мочалой. — Велик у тебя, толстый черт, кулак, да плечо узко! Ништо! И все вы таковы, ругатели, грозители. А крестьяны бывают тоже люди. Знаешь где? А на Дону! Из них там казаки родются. И Доном они от всех бед спасаются.
— Вор! — выдавил из себя толстый. — Воровские твои речи. И казаки твои — из тех же воров! Бояр грабят, да во чисто поле бегут. Да? Таких имать надо.
— Всех не переимаешь!
— Да и тесно стало! Земли-то нет! — это опять с конца стола крикнули.
— Тесно! И пусть! И что в том худого? Так от века. Люди в тесноте живут, на просторе — волки.
— Ты подожди! — ярился мужичонка. — Ты подожди! Бояры сами, если суть знают, крестьян должны от всяких обид оберегать и подать с них по силе имать, и насильством у них скотины никакой, и хлеба всякого, и животов не брать. А если их, крестьян, как липу, обдирать, так в мире и Егорий святой есть… Вспомнить можно.
— Какой Егорий?
— А тот, что и волку зубы дал, чтоб себе кормился, жизнь промышлял и врагов ел.
— Вот ты каков! Посмотреть!
— Да уж, прости меня, господь…
— На господа не кивай и ответ держи сам.
— Держим. Уж сколько-сколько, а — держим. Да годы-то ныне стали тугие, голодные, держать стало трудно, только повертывайся. Куземка-юродивый не зря на Москве плакал: теперь-де Куземке никто денежки и кафтана не даст. А будет еще хуже, станут-де и деньги на улице валяться, да никто их брать не станет.