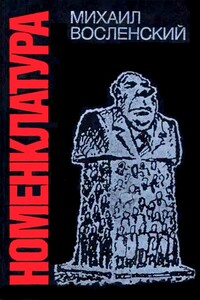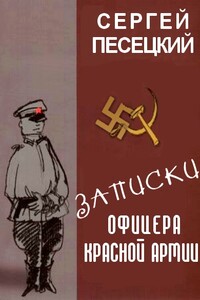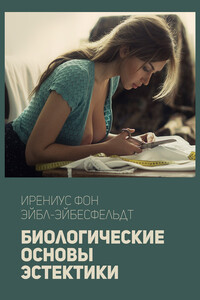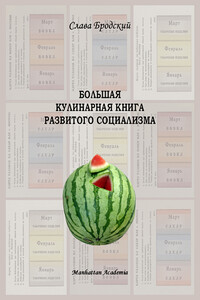Слава Бродский
“Евгений Онегин” в постановке
Мариинского театра
на сцене Metropolitan Opera House 19 июля 2003 года
Вас это не раздражает? The Kirov Opera of the Mariinsky Theatre. Как для вас это звучит? Для меня это
все равно, как если бы из Берлина привезли Hitler Opera или, скажем, Goebbels Ballet. Я, конечно, прошу прощения у берлинцев за
такое допущение. И сделал-то я его, предполагая, что все понимают, насколько
оно нереалистично. Но почему-то то, что мы никак не можем ожидать от немцев, мы
не только ожидаем, но даже все время терпим от русских. И на редкие наши
недоуменные взгляды они отвечают очень уверенно, что, мол, уже в течение долгих
лет они ездят по свету с этим именем и если его снять, то можно этим нанести
ущерб театру. И мы им говорим, что тогда, мол, все понятно, тогда все в
порядке. Продолжайте, ребята, в том же духе и ни о чем не беспокойтесь. В
следующий раз привозите Ulianov Ballet и Jugashvili Circus.
Вот с такими мыслями я
шел в субботу 19 июля 2003 года в Metropolitan Opera House слушать “Евгения Онегина” в постановке
Мариинского театра. Один мой приятель заметил мне, что с таким настроением
лучше было бы туда не ходить. Возможно, он был прав, мой приятель. Возможно,
что эти мои мысли добавили еще что-то к моему довольно негативному мнению о
постановке в целом. Хотя впечатление, которое на меня произвели голоса
исполнителей, было скорее положительным, чем отрицательным. Но разрешите мне
все-таки начать с самого начала. И рассказать о том, как я воспринял все
представление в целом.
Итак, все с самого
начала. Дирижер раскланивается. Играется вступление. Занавес идет вверх.
Картина первая. На сцене якобы усадьба Лариных. Дом, якобы выходящий в старый
запущенный сад. Где-то в сторонке, якобы под деревом, Ларина варит якобы
вишневое варенье. Старушка няня, помогая ей, чистит яблоко. Посреди сцены стоит
стул. Вместо декораций – белые стены-панели. Дуэт Татьяны и Ольги “Слыхали ль
вы” исполняется где-то за этими панелями. И вам начинает казаться, что это
фонограмма. Причем плохая. Нет, я, конечно, нисколько не сомневаюсь, что
никакой такой фонограммы не было. Конечно, пели живые Ирина Матаева (Татьяна) и
Екатерина Семенчук (Ольга). Просто впечатление было такое, что запустили
фонограмму.
И вот молодые голоса
Татьяны и Ольги стали напоминать матери и няне их молодость. Дуэт превращается
в квартет. Идет ария Ольги “Я не способна к грусти томной”. Картина подходит к
концу, а у нас две хорошие новости. Довольно-таки неплохие (я бы даже сказал,
совсем неплохие) два голоса: меццо-сопрано Светланы Волковой – Лариной и
контральто Екатерины Семенчук. Вселяя надежды, опускается занавес.
И тут пришла беда,
откуда ее не ждали. Вы помните, посреди сцены стоял стул? Так кто-то его
сдвинул. И занавес опустился прямо на стул. За занавесом смятение. Все бегут
вызволять стул. В зале оживление. И вот тут меня стали одолевать плохие
предчувствия. Правда, не очень было ясно, почему. Вроде бы ерунда какая-то.
Подумаешь, стул не туда поставили. Может быть, это Ольга-шалунья его нарочно
туда подвинула. Но я стал вспоминать, как точно такая же история произошла
когда-то давным-давно в Москве на сцене Дома культуры завода “Каучук”. Ну
вспомнил и вспомнил. И надо было, конечно, сразу же об этом постараться забыть.
Но почему-то этот эпизод не забывался. И эта мысль о художественной
самодеятельности завода так и не покинула меня до самого конца представления.
Картина вторая. Татьяне
неспокойно. И Ирина Матаева изображает это очень темпераментно и, я бы даже
сказал, страстно. А поскольку дело все это поначалу происходило на кровати, то
в некоторый момент я стал опасаться, как бы она не переступила некоторую,
знаете, такую черту опасную. Но нет, никакой черты Татьяна не переступила. И
оттого, что она ее не переступила, мне ее темпераментность очень даже
понравилась. И я с нетерпением ждал дальнейшего развития событий.
Татьяна расспрашивает
няню про старые года. И вот тут есть один такой интересный момент. Помните,
конечно, это: “Так, видно, бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет. А
было мне тринадцать лет”. Я на этой фразе всегда аудиторию проверяю. Если
оживление в зале большое, то что это значит, по-вашему? Если кто-то засмеялся
или жене своей сказал: “Слышь, слышь, тринадцать лет!” А это значит, что те,
которые “оживились”, ни «Онегина» в театре никогда не слушали, ни Пушкина не
читали. А в зале, конечно, всегда найдутся такие. И исполнители это хорошо
знают. И Филиппиевна, то бишь, Ольга Маркова-Михайленко, которая, кстати, тоже
очень и очень неплохо свое отпела, когда до этого места дошла, уж постаралась,
чтобы про тринадцать лет все расслышали. И к зрителям обернулась, и выражение
на лице подобающее сделала, и звука немного прибавила.
Что же дальше на сцене?
Татьяна подходит к столу, берет перо, бумагу. Петр Ильич наш непревзойденный
заставляет забыть все постановочные неудачи: “Тирам-тирам, тирам-тирам”. Пошел
Татьянин безумный сердца разговор. “Я к вам пишу – чего же боле? Тирам-тирам,
тирам-тирам. Что я могу еще сказать?” Два гения одновременно – это слишком
много для простого человека. Признаюсь, покатила слеза. Крупная покатила, не
остановить. И вот уже последние слова Татьяны. Она закончила писать свое
необдуманное письмо. И опять Чайковский этими своими невозможными “Тииии, рара,
рара, рара, ра. Парара-ра, парара-Тииии...” пронзает вашу голову и грудь
насквозь и разрывает вас на части.