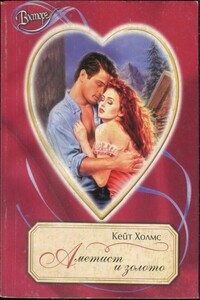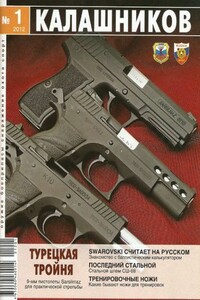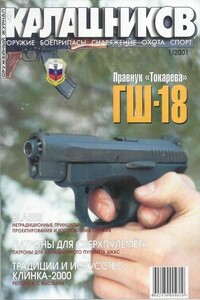Елена Катасонова
Дневник женщины времен перестройки.
Итак, докторская моя, похоже, накрылась. Похоже... Остатки нашего советского оптимизма - "Эй, товарищ, больше жизни!.." Не "похоже", а накрылась по-настоящему, хотя я, конечно, еще побарахтаюсь (тоже наше, отечественное: боролись за все и всегда - от построения коммунизма до покупки стирального порошка). И ведь даже не забодали ее, сердечную, а просто не допустили к защите. Жали руку, благодарили тепло, чтоб не сказать истерически - "Давненько не было у нас столь фундаментальных исследований!" - но, увы, нет специалистов по теме, а значит, нет для меня оппонентов.
"Открытие на стыке двух дисциплин..." Три института, куда я толкнулась в поисках оппонентов, именно так и припечатали, объясняя причину отказа: для всех я "не наша". Отвергли, черти, но признали открытием, и я с горьким торжеством перечитывала их вердикт снова и снова. Да, открытие! А раз так, то откуда же взяться специалистам? Я ж ничего не продолжила, не развила никакую теорию, а вот именно что открыла! И как же мне теперь быть? Вообще-то я знаю: писать в ВАК, требовать "черных", независимых оппонентов. Только опять-таки где их взять? Если это открытие - а я нахально, самонадеянно в это верю, - то и у ВАКа их нет. Ну, не мое это дело, пусть ищут близких по теме, мне-то что?
Так я храбрюсь - здесь, в Мытищах, в общежитии докторантов, аспирантов и разных прочих шведов. Храбрюсь из последних сил. Впервые жалею, что одна пока в комнате - вторая постель пуста. Хоть бы поговорить с кем-нибудь, хоть бы кто-нибудь меня пожалел или просто выслушал... Никого.
Я выпила с горя чаю, послонялась по комнате, уныло пролистала газеты везде все плохо - и вышла на улицу. Господи, как уныло! Темно и уныло. Впрочем, и у нас, в Куйбышеве, не слаще.
Мы уехали из Москвы перед самой войной, строить заводы - не я, конечно, но папа с мамой. Война закончилась, а мы так и застряли в этом грубоватом, но, в общем, красивом городе. Особенно хороши были Волга и Вилоновский спуск с пряничным, белым с розовым, театром на холме и цветущими яблонями по склонам. Я говорю "были", потому что тогда еще не построили ГЭС, и Волга не цвела, не застаивалась - не знаю, как сказать лучше. Короче - это была река! Она плыла себе и плыла, куда ей хотелось, никто ее не останавливал, путь ей не преграждал, в ней вольно плескалась рыба - в чистых, спокойных водах. Широкая, полноводная, другой берег чуть виден, тонет в сиреневой дымке, и пахнет свежестью и прохладой большая вода. Помню, ездили к Жигулевским горам на маленьком старательном пароходике. Стоишь на палубе, плывут мимо зеленые берега, и нет конца-края воде. Теперь Волга стоит притихшая и покорная и какая-то словно испуганная, а у берега лениво колышется мутноватая зелень. Пропала, погибла река!
Как же мне за нее больно! Так больно, что я сама удивляюсь: что уж так страдать-то? Или возраст подошел такой - все-таки мне за сорок, - когда остро чувствуешь свою кровную связь с рекой и землей, вообще с миром. Все мираж, все проходит. Уйдем и мы, а Волга останется, если не загубят ее окончательно...
Все - мираж, но за изобретение свое я еще поборюсь. Придется ВАКовским деятелям оторвать благополучные задницы от удобных кресел и заняться мной, провинциалкой, ничьей не женой, не родственницей, ничьей дамой сердца, продвигаемой могущественным покровителем. Не заинтересован во мне никакой институт или главк, никакое министерство, ни ведомство, короче - никто. Вот разве что люди, живущие в насквозь продуваемых панельных домах? Для них мое изобретение - благо, надежда на другую жизнь, но они ничего не узнают ни про меня, ни про шанс жить иначе. Может, написать в газету, воззвать, так сказать? Несолидно как-то. Да и что писать? "Помогите, люди добрые: меня до защиты не допускают!" Смешно, непонятно, да и рано еще: не весь путь пока пройден.
Ну, ладно. Есть один институт, в Ленинграде, тоже занимается моими проблемами. Что ли им позвонить? Ну уж нет! Никаких звонков, никаких писем. Явиться самой, пред светлые очи директора, поговорить, убедить, умолить. Да, надо ехать, а сил нет, ну вот нет больше сил! Господи, хоть бы прислал ты кого на эту застеленную белым солдатскую койку! Мы бы пожаловались друг другу: наверняка у соседки тоже проблем миллион, как у всех соотечественников, и еще миллион - как у всех женщин.
Едешь на защиту в Москву, а тебе поручений воз, и все надо не купить, а достать! И не откажешься ведь, не скажешь: "Ты что, с ума сошла? Когда это мне бегать по магазинам?" Покорно записываешь, киваешь: "Да-да, постараюсь, если что будет, куплю". Главное - разыскать, а уж как ты все это допрешь, сколько в тебе лошадиных сил - дело десятое. Раздобыть, приволочь - себе, родственникам, подругам - долг чести советской женщины, чем и отличается она от женщины, так сказать, природной, нормальной. Все у них там другое, все теперь это знают и проклинают денно и нощно свою судьбу. "Черт меня догадал с моим умом и талантом родиться в России..." Но и без ума и таланта в России невесело.
Я пишу и поглядываю на белую коечку. Не сегодня, так завтра приедет моя подруга по несчастью родиться в нашей абсурдной стране: не Азия, не Европа, а так - серединка на половинку. А уж лжи-то у нас, демагогии, серости!.. И верхи серые, и низы. Посрединке - нищая, замученная интеллигенция, презираемая и теми, и другими, поскольку никому не принадлежит, только себе. И об этом мы потолкуем всласть, тоскливо и безнадежно поругаем новые времена, от которых тоже пока никакого толку, поразмышляем, что будет дальше. Возникли же у нас надежды - в середине восьмидесятых, - да что-то с места никак не сдвинемся. Ничто не меняется. Как - ничто? А пресса? Она - да, она действительно во хмелю, да и мы читаем запоем, вдыхая пары свободы, словно дурман, наслаждаемся химерами всякими. Читаешь, читаешь, да и стукнет сердце: "А вдруг? Вдруг выгребем, станем, как все? Вдруг получится?" Наглотаешься надежд, обещаний, разоблачений да и не спишь всю ночь, как вчера.