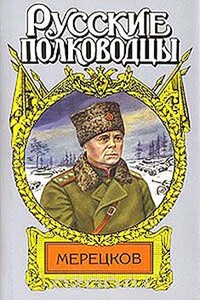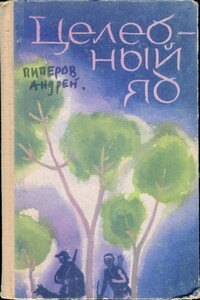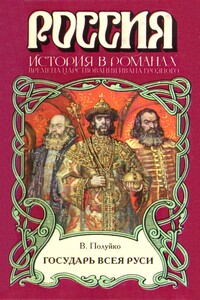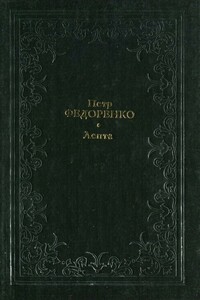На обширной площади перед Зимним дворцом была какая-то странная, необычная тишина. Народ отдельными кучками стоял по разным местам этой площади и с напряжённым вниманием глядел на несколько слабо освещённых окон, которые как-то грустно и таинственно выделялись своим тусклым светом на тёмном фоне высокой каменной громады дворца, погруженной во мглистый мрак ноябрьского вечера. Эти кучки народа оставались в глубоком безмолвии; изредка разве обратится сосед к соседу с каким-нибудь замечанием, вопросом или сообщением, но и то так тихо, вполголоса, почти шёпотом… Тягостная неизвестность и томительная тоска какого-то грустного ожидания отпечатлевались на лицах. А между тем, несмотря на эти неподвижно стоящие кучки, площадь полна была тревожным движением. И от дворца, и ко дворцу почти беспрерывно то отъезжали, то подкатывали всевозможные экипажи: курьерские возки, городские санки, тяжёлые барские кареты четвернёй и шестёркой цугом, но мальчишки-форейторы, которые в то время имели обыкновение кричать своё «пади!» с громким и продолжительным визгом, стараясь выказать этим своё молодечество, на сей раз не подавали ни малейшего звука. Одно только глухое громыхание колёс или время от времени топот копыт коня какого-нибудь вестового гусара в высокой и мохнатой медвежьей шапке, проносившегося куда-то и зачем-то во всю конскую прыть, нарушали это странное и строгое безмолвие.
— Ещё вчера, сказывают, изволили быть в совершенно добром здравии, — шёпотом передавал в одной из кучек народа какой-то мелкий сенаторский чиновник двоим-троим из ближайших соседей.
— Где уж здорова! — с грустным вздохом махнул рукой старый инвалид в гарнизонном кафтане. — Мне хороший знакомец мой один — он кофишенком у князя Платон Александрыча[1] — так он сказывал, что ещё третьево дни целый день на колики жаловались.
— И однако ж, вчера была здорова, — настаивал сенатский чиновник, — и мне даже через одного человека из самого дворца доподлинно ведомо, что даже обычное своё общество принимали в будуваре, очень много разговаривали о кончине сардинского короля и всё шутить изволили над Нарышкиным, над Лев Александрычем, всё, значит, смертью его стращали, а ныне вот…
— Никто как Бог… Его святая воля… Авось-либо всё ещё, даст Бог, благополучно кончится! — утешали себя некоторые.
— Ах, дай-то Господи! Сохрани её, матушку, Владычица небесная! — крестясь, вздыхали другие.
В то самое утро в опустелой Софии, дремавший среди уныло обнажённых садов, миновав Царское Село, скакал верховой ординарец. Взмыленный конь его уже хрипел и выбивался из последних сил, а молодой человек между тем всё больше и больше пришпоривал и нетерпеливо побуждал его ударами шенкелей, но конь начинал уже спотыкаться и, видимо, терял последние силы.
— Лошадь под верх! Бога ради, живее! — торопливо и взволнованно закричал ординарец, приплетясь кое-как на конюший двор. Но его не слушали. На крыльце перед конюшнями стоял кто-то закутанный в дорогую шубу, в собольей шапке и с дорогой собольей муфтой в руках.
— Лошадей!.. Лошадей, каналья, скорее! — шумел и жестикулировал мужчина, — лошадей, говорю, или я тебя самого запрягу под императора!
— Ах… ах, ваше сиятельство! — манерно и с ужимками, полуучтиво и полугрубо отвечал ему на это хрипло-пьяноватым голосом какой-то старикашка, одетый в гражданский мундир заседателя. — Запречь меня не диковинка, но какая польза? Вить… вить я не повезу, хошь до смерти извольте убить.
— Под императора, говорят тебе! — топал меж тем тот, кого заседатель называл сиятельством.
— Да что такое император? — всё так же манерно разводя руками, возражал ему пьяненький старикашка. — О чём говоришь-то, не разумею… Какой император?.. Если есть император в России, то дай Бог ему здравствовать, а буде матери нашей не стало, то… то ей виват! виват!.. Н-да! вот те и заседатель!
Молодой ординарец, заглянув при свете луны в лицо закутанного мужчины, почтительно отдал ему воинскую честь и торопливо прошёл мимо, направляясь в конюшню и таща за собой на поводу измученную лошадь. В этом мужчине он узнал графа Николая Зубова.
Не дожидаясь заседателя, ординарец сам выбрал под себя свежую лошадь, спешно переседлал её под своё седло и как вихрь помчался по гатчинской дороге.
Вскоре навстречу ему одиноко проскакал кто-то закутанный в плащ и на лету успел только крикнуть одно слово «Едет!», вслед за которым оба всадника уже далеко разминулись друг с другом.
Через несколько минут сквозь ночную мглу показались впереди на дороге точно бы два огненных глаза, которые, всё увеличиваясь и приближаясь, превратились наконец в два фонаря дорожной кареты, мутно светившие сквозь густой пар, что валил облаками от восьмёрки запряжённых добрых коней.
Молодой человек придержал свою лошадь.
— Кто там? — раздался из открытого окна мужской голос. — Гонец?.. с известием?.. Что нового?..
— Её величеству, слава Богу, лучше! — громким и отчётливым голосом доложил ординарец, поворотив свою лошадь и направляясь обратно по дороге вровень с окном кареты. — Когда сняли шпанские мушки, — продолжал он, — государыня открыла глаза и попросила пить… Я от графа Салтыкова доложить, что есть надежда.