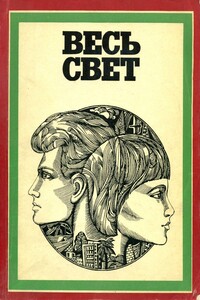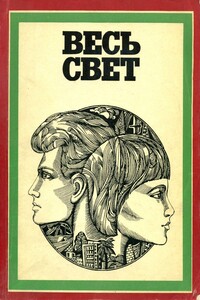Долгое время я с трудом удерживался, чтобы последними словами не ругать господина Бельмонте. Но тогда мне еще мало что было о нем известно. Тучный и лысый как колено. Такое подмечаешь мигом. И жирные руки подмечаешь, как они неспешно, словно откормленные гусыни, переваливаются по столу, когда разговариваешь с господином Бельмонте.
Но с ним ведь и не разговариваешь вовсе. Его только просишь. И я неделю за неделей осаждал двери его бюро и не умерял своих усилий, покуда его секретарша не валилась в изнеможении на пол, тогда, осторожно приподняв ногу, я переступал через нее, не причиняя ей более вреда.
Бельмонте принимал меня, сидя неизменно в одной и той же позе: голова его тяжело падала на второй подбородок, отделенный от лица черной складкой, полукольцом обрамлявшей лицо от уха до уха. Широкая черная складка резко выделялась на рыхлом белесом лице, отражавшем старания Бельмонте благосклонно встретить каждого посетителя. Он тяжело, с усилием раскидывал руки, словно ему приходилось удерживать в бледных, с жировыми подушечками ладонях увесистые гири. Казалось, именно невидимые эти гири тянут его услужливые руки книзу: глухой шлепок тотчас давал знать, что руки вновь приземлились на белоснежно-бумажную пустыню письменного стола.
На том обычно заканчивались мои визиты к господину Бельмонте. В словах надобности не было. Господин Бельмонте знал, зачем я прихожу. В свое время, окончив консерваторию, я без промедления написал ему, ому и многим другим агентствам, и послал копии своего диплома, удостоверявшие, что я именно тот пианист, чье имя рано или поздно вынудит магистраты многих и многих городов расширить свои концертные залы. Все прочие агентства остались глухи к блестящим успехам, которых они в будущем добились бы вместе со мной. И только агентство Бельмонте ответило мне. Господин Бельмонте самолично просил меня заглянуть к нему в бюро. И я заглянул. Бельмонте, когда я вошел, поднялся со стула, вышел мне навстречу, протянул руку, и я воссел перед его столом, как человек, которому есть чем одарить людей. В ту пору лицо Бельмонте еще так не обвисло, да и белесым таким оно не было, каким сделалось на протяжении этих лет. Все меньше и меньше слов требовалось нам. Мы ждали только одного — полного кассового сбора, который позволит господину Бельмонте разрекламировать с должным блеском мой первый концерт. Поначалу мы мечтали о том, как развернем бурную рекламную атаку. Бельмонте предполагал изыскать совершенно новые пути для подготовки моего первого концерта, чтобы настроить публику на предстоящее событие, которое заставит ее начисто позабыть когда-либо слышанные заурядные концерты. Но после того как мы несчетное число раз обговорили все детали рекламной битвы, нам обоим стало тягостно затрагивать эту тему. Нам не хотелось представать друг перед другом по-детски наивными фантазерами. Полный кассовый сбор, которого рано или поздно вне всякого сомнения добьется Бельмонте с одним из своих знаменитых музыкантов, вот что имело значение. Тем временем я усердно упражнялся в своей чердачной каморке. Дни и ночи напролет, скудно кормясь перепиской бумаг. Да разве это беда при моих видах на успех, при том доброжелательстве, которое излучал такой человек, как Бельмонте, всякий раз, когда я посещал его! И хотя мои визиты становились все короче, и хотя все труднее и труднее было повергать на ковер непонятливую секретаршу, мне все-таки удавалось лицезреть Бельмонте каждую неделю.
Но говорить нам было не о чем. Бельмонте раскидывал, словно извиняясь, руки и в полном бессилии шлепал ими о письменный стол, а это означало, что необходимый нам кассовый сбор все еще заставляет себя ждать. Я приучился в ответ на его жесты склоняться в глубоком поклоне. Это означало, что я не в обиде, что я только хотел еще раз осведомиться, как наши дела. Так, в поклоне, я и поворачивался, не поднимая даже головы; не хотел ни его, ни себя ставить в неловкое положение, глянув ему прямо в глаза.
Когда я выходил в приемную, секретарша, собравшись с силами, только-только успевала подняться, столь краткими были мои визиты к господину Бельмонте. Визитов продолжительнее мне бы не выдержать из одной только жалости к замученному бесчисленными бумагами Бельмонте.
Но вот настал день, когда Бельмонте не раскинул рук, дабы сокрушенно опустить их на стол. В этот день он улыбался и пригласил меня присесть. Готов ли я, спросил он, подворачивается удобный случай. Все, правда, произойдет чуть-чуть иначе, чем мы себе прежде представляли. Но так уж повелось в этом мире. Как бы там ни было, для меня подворачивается удобный случай. И он тут же назвал мне дату. Я выскочил на улицу. Промчался в свою каморку и бездарнейшим образом отбарабанил всю подготовленную программу.
В назначенный день я отправился в зал, где должен был состояться концерт, уже в четыре часа пополудни. Там заранее протопили. По углам стояли кадки с лавровыми деревьями. Ряды кресел блистали. Весь зал источал благоухание праздничности. Я нервно шагал взад-вперед но сцене. Садился. Нажимал на клавиши. Но горячие руки взмокли. Пальцы соскальзывали. В ушах стучала кровь.