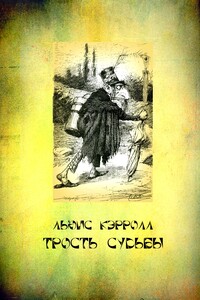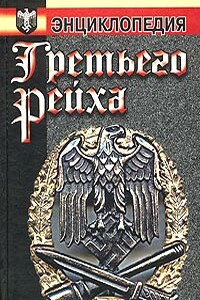— Через одну, мальчики! — кричала в тугое брюхо автобуса верткая поджарая старуха с крашеным под солому каре и выражением предельного душевного подъема на морщинистом и все же неестественно юном лице; ситцевое платье в горошек, авиамодели в руке, беленые мелом парусиновые тапочки, — словно из карнавальной процессии ряженых вырвали сей персонаж — задорную комсомолку в роли старухи, но седина и толстый слой морщин, положенные временем, этим обычно мастеровитым гримером, не совсем уклюже прикрывали трескучую, в тон пионерскому барабану, юность.
И как вскрик латунного горна звучал ее голос, когда заплеванный мундштук плющит неумелые губы и вместо бодрящего «Вставай, вставай, штанишки надевай!» рвется из раструба хриплый намек, но, пройдя тесное горнило латуни, эхом огненных лет откликается в больших не по возрасту сердцах пионеров и наказами павших героев догоняет уходящий рассвет.
И как собственные крылья берегла она бумажные плоскости моделей, держа их вверху, над толпой, подальше от потных касаний и наглого недоуменья.
Автобус тронулся, где-то лопнуло, у кого-то хряснуло, что-то шлепнулось и потекло, слабый возглас с требованием всех расстрелять пыхнул у дверей и тут же увяз, как вязнет в груде тел пуля, а вот тронутая старуха устояла, и еще не стихло волнение, а она уже с силой грузчика раздвигала толпу, влекомая странной целью — затылком, похожим на стиральную доску; конечно, пройти было непросто, крылья хлопали полицам, кого-то задел хвост, кого-то нос, какая-то визгливая дамочка извещала всех о дороговизне колготок, но странная пассажирка в ситце этого уже не слышала, и она не скандалила, нет, она даже извинительно улыбалась за что-то постороннее в себе — то, что на время втиснуло в ее старое тело мощь и наглость уличного фраера.
Затылок, к которому она пробиралась, за все это время ни разу не шелохнулся и все так же невозмутимо торчал над сиденьем. Возмущались морщины, их жгутики при особо густых и пахучих ругательствах, щедро спускаемых в пассажирские уши, брезгливо морщились и стыдливо краснели.
Ряженая комсомолка, действительно, рехнулась: пробравшись к затылку, она сломала об него хрупкие крылья авиамоделей, но несокрушимый утес с живыми морщинами как будто и не почувствовал этого, старой же авиамоделистки на большее не хватило — состарившись теперь по-настоящему, она покачнулась и стремительно, словно подбитая птица, спикировала на пол. Лицом вверх. Руки произвольно. Извинилась глазами за причиненное неудобство. Замерла… Визгливый голос, требовавший расстрела, ругнулся в последний раз: «Скорую!»
Странный для спертого, многократно испорченного воздуха салона вихрь свежести пробежал по автобусу: разбудил дремлющего у стойки пассажира, прошелестел мятой газетой в руках владельца затылка и мирно затих…
Старуху подобрали и в окружении ее воспитанников, помощников и просто зевак быстро вынесли наружу; из пионерской свиты в автобусе остался один рыжий мальчуган: решительно погоняя пассажиров, он собрал останки планеров, с тою же пионерской бесцеремонностью пробрался к выходу и, только спрыгнув вниз, обнаружил в охапке вместе с авиащепками два затоптанных, местами еще ослепительно-белых пера.
Лиза Чайкина Лизой была недолго. С такой фамилией имена долго не живут. Они соскальзывают быстро и столь же незаметно, как в добрых руках слетают с доброй шашки ножны. И не случайным призраком для сравнения вынырнула из этих строк шашка. Ведь Лизонька родилась как раз в то время, когда ножны с шашек соскальзывали слишком часто даже для сравнений, так часто, что они грозили стать банальностью и почти стали ей, как и тот ветер, что насвистывал в них, когда ждали они возвращения своих постояльцев. Постояльцы возвращались и вносили в тесные свои хижины запах сладкий — чужой крови, и горький — своего стыда за то, что другие ножны, круглые и короткие, слишком долго оставались без клинка.
Лиза стала Чайкой и умудрилась остаться ребенком. Детство в те годы светило не многим, и нужно было иметь либо недетское мужество, либо стариковскую мудрость, чтобы, забыв о хлебе, гонять мяч или наряжать кукол. По огромной, утопающей в кумаче стране, бродила в поисках пропитания особая, карликовая порода взрослых, живущая интересами той здоровой физиологии, что по классовой индифферентности своей была прозвана вождем мирового детства «болотом», а рядом веселилась порода детей-исполинов, ежегодно устраивавшая праздники детства и юности, забавлявшая себя флажками, лампочками, механическими игрушками, подшипниками размером с «чертово колесо», ватными, хорошо горящими буржуями, красными ангелами, рабочими-гигантами, змеями и гидрами империализма в натуральную величину, а также быстро растущими на плакатах вождями, грозящими при аварии похоронить под собою треть, самое малое — одну шестую мира, — и все это шумело, мигало, визжало, дети-гиганты водили хороводы, играли в явочных подпольщиков и явных комиссаров, шпионов, разоблачения и саботаж, а также устраивали любимые всем мировым детством тайные собрания, где клялись наподобие Сойера и Финна друг другу в верности, — всем было весело, только взрослым карликам было не до веселья — прагматичные нужды накидывали тень грусти на их глаза — мамка в комитете каком-то играет, папка в агитбригаде поет, а ботинок в школу нету…