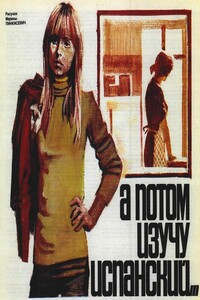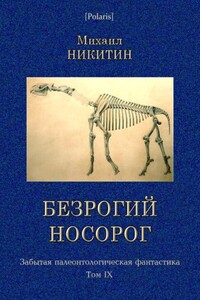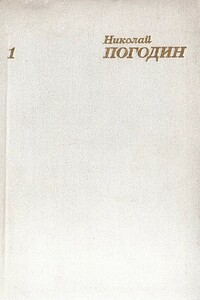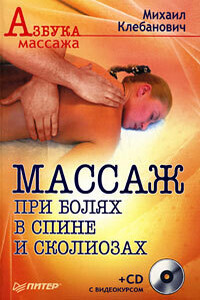1. Централ — когда-то ста́нок, потом почтовая станция на долгом тракте; острог; большое забайкальское село, торговое и воровское, и вот, наконец, новый современный поселок, горный комбинат, а за ним все те же складки земной коры, вспученные неведомыми силами. Холмы, сопки, и на близком горизонте — черные горы.
«Малые горы у близкого горизонта», — вспомнилось Стахову, когда он, пройдя поселок с одинаковыми блочными домами, вышел на окраину, увидел степь и горы.
Внизу, в распадке, еще с тех самых пор, когда набежал сюда высланный на поселение каторжный люд, лепилось заплот к заплоту село.
По гравийной дороге Стахов спустился в распадок и пошел вдоль все еще крепких черных изб.
Пересыльная тюрьма, или, как ее называли, централ, стояла в самой середине села. Надо полагать, вокруг нее и начали строиться избы, вытягиваясь по тракту в бесконечно длинные слободы.
Стахов остановился перед останками тюрьмы, угадывая их по образовавшемуся меж двух соседних изб прогалу. Прогал этот был покрыт истоптанной травой с лысой плешинкой посередине. Двое футбольных ворот, сбитых из струганых слег, стояли тут, да лениво бродила тощая сука с длинными сосцами.
Централа не было и в помине. А Стахов надеялся, добираясь сюда на самолетах с тремя пересадками, все-таки увидеть что-то. Хотя бы самое малое. Стену ли, острог ли, пусть перестроенный, пусть разрушенный, но все-таки хранящий приметы давнего.
Ему это было необходимо, и он надеялся, что уж коли сохранилось такое случайное, такое налетное словечко в русском языке — «централ», обозначив и старое село, и новый поселок, то остались еще на земле и вещественные доказательства того, что он был тут — Кущин.
«Завтра в Агадуй, — подумал Стахов, — завтра к его пределу», — и содрогнулся от этого все ограничивающего слова — «предел».
2. Лошадей меняли на станциях так быстро, что Кущин не успевал согреться. Выручал тулуп, который передали друзья, встретив возок далеко за Иркутском.
Кущина снова везли на восток, за Байкал, в пустое и мертвое брюхо простора. Он узнавал станки, почтовые станции, даже лица смотрителей, удивляясь, что память сохранила все эти малые подробности.
За Байкалом потянулись всхолмленные степи, все еще не покрытые снегом. И только кое-где у подножий черных гор белели снежные задувы.
Он знал, что везут в Агадуй, что это его последняя дорога, и думал о боге. Не смиренно, покорившись судьбе, а совсем по-иному, как привык думать сначала в каземате, ставшем на долгие двадцать лет его одиночным пристанищем, а потом в Сибири.
В одиночке ему разрешено было держать единственную книгу — Библию. И он читал ее семнадцать лет подряд на четырех из семи языков, которые знал и на которых мог думать.
В последние три года одиночного заключения, хлопотами «дедушки Скобелева» (так он величал нового коменданта Петропавловской крепости), ему было разрешено читать журналы и книги.
Мелькали за малым окошком кибитки версты, уже не определенные полосатыми столбами, а он думал:
«...В челе человеческом есть свет, равный свету, — мысль. Нимб над челом святых на древних наших иконах изображает мысль. Какое великое пространство! Пространство мысли и для мысли только доступное...»
Медленно отступал день, стремительно падали сумерки, и над головой сидящего напротив фельдъегеря в окошке всходила голубая звезда.
Кущин касался мыслью этой звезды, стараясь понять ее смысл во Вселенной.
«...Бог творящим Словом и единым Словом производит человека... — подумалось. — Точное уразумение приводит к открытию; близкое — к воображению и мечте; отвлеченное — к догадке, предположению, к сочинениям. Последнее уразумение — суть творчества...»
Задремывали, по обе руки от него, жандармы, наваливаясь всей тяжестью укутанных в одежды тел, всхрапывали на ухабах. Вскрикивал возница, предупреждая встречных, обгоняя попутных.
«...Одоление незнания не есть еще познание. Только воля может вести познание далее и далее. Понятие можно возвести в высшую степень через смерть прежнего понятия...»
Он подходил в мыслях к главному. Менялись жандармы. Впрягали свежих лошадей.
Фельдъегерь ехал с ним от самого Иркутска, устал, осунулся; с наступлением ночи отчаянно начинал бороться со сном. Страдал, силясь превозмочь дремоту, и вдруг забывался, откинувшись всем телом, сладко, по-детски посапывая, и губы его капризно кривились.
Кущин не спал вот уже третью ночь, но чувствовал себя бодрым. В минуты крайнего напряжения усталость не приходила к нему, и мысль работала отчетливо и ясно.
Он сохранил себя в двадцатилетнем одиночном заключении, подчинив бытие только мысли, переиначивая и даже творя мир заново.
Там он был Творцом, равным богу.
«...Отчего? Почему? Для чего? — при познании, что бог есть, превращаются в бесполезную схоластическую форму. Отметим особо — при познании! Не просто уверовать, но и познать.
Истина есть не что иное, как познание, что бог есть.
Познание, что бог есть, — есть совершенное наслаждение Умом.
Познание это обильно и составляет суть мыслящего человека.
Как все гениально просто: я, веруя, познаю бога. А бог всемогущ и беспределен. Значит, познавая бога, я бесконечен в познавании его и всемогущ в своем познании. Мысль моя, в таком случае, не ограничивается мыслью, которая прилична тому или другому времени или общности. Такому познанию нет границ. Познавая бога, я вижу всю несостоятельность главенствующей нынче философии.