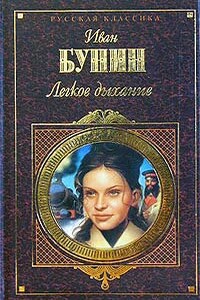Всем известно: бумага терпит. Терпит: и ложь, и гнусь, и опечатки, и грязную совесть, и скверный стиль, и дешёвый пафос. Всё.
Но, как свидетельствует этот рассказ, до времени.
Произошло это в одно из ноябрьских утр, когда мокрые хлопья снега и капли дождя спорили о том, что сейчас – осень или зима. Случилось так, что именно в это мутное утро бумага потеряла терпение. Ей надоело нести на своих плоских покорных листах буквы, буквы и снова буквы; мириады бессмыслиц, притворившихся смыслами; нудный дождь слов, от которого не то лужи, не то книги – не разберёшь.
У бумаги – надо думать и об этом – своя трудная долгая жизнь, своя нелёгкая школа: сперва она растёт, врывшись в землю корнями, и шумит облакам, проплывающим над ней кусками прозрачной серой обёрточной бумаги, потом её отпиливают от её корней, кладут под затиск прессующих машин бумагоделательного завода, топят в чанах, полных кипятку, сушат, мнут… Да к чему об этом вспоминать?
И вот бумага просохла, машины её уже научили терпению. Теперь её плоские белые листы обучают грамоте. По ней бьют острыми свинцовыми буквами, в неё втискивают смазанные краской матрицы. Бумага терпит.
До времени.
Установить дату, о которой идёт речь, трудно: бумага, отшвырнувшая от себя типографские шрифты, вместе с буквами заставила отступить и цифры. Этот короткий, но решительный бой можно было бы назвать сражением под Табула-Раза.
Бумажное поле битвы осталось снежно-чистым. Типографские знаки, бежавшие в свои машинные убежища, недолго совещались. И им, этим двадцати пяти или двадцати шести буквенным алфавитам, надоело притворяться длинными, во весь диаметр мира протянувшимися смыслами. Они тотчас же разбились повзводно на алфавиты и одно из правофланговых А, широко расставив пятки, сказало:
– Довольно нам позволять ваксить себя типографской краской, довольно таскать на свинцовых спинах их дурацкие смыслы, довольно – говорю я – бить лбом по бумаге! Пусть из нас делают что хотят – свинцовые пули или свинцовые тумбы – но в литературу ни шагу!
Свинцовый шорох одобрения отвечал на краткую речь. И мириады азбук, построившись в строгом школьном порядке, начали исход. Впереди шли широко расставляющие ноги большие А, в хвосте колонн длиннопятые с пикой через плечо дзеты.
Метранпажу одной из утренних газет, сидевшему у жёлтой лампочки над бумажными змеями гранок, всё время чудилось шуршание мышей под полом. Это была иллюзия слуха: на самом деле это был шорох уходящих прочь из страны газет, журналов и книг перетруженных, истёртых о бумагу, усталых до последнего букв.
Первым свидетелем Исхода был старик-газетчик, выходивший к перекрестку вместе с ранними звонками трамваев и резиновыми голосами автобусов. Под левым локтём у газетчика был влипший номерами в номера большой пук вчетверо сложенных газет. Вот подошёл первый покупатель. Вынув из левого кармана пальто носовой платок, он вытер стекло своего пенсне, на котором осело несколько крохотных, точно выпрыгнувших из пульверизатора, дождевых капелек, потом пошарил правой в другом кармане пальто и обменял никелевую монету на сложенный вчетверо бумажный лист.
Газетчик выдернул из-под локтя второй номер, но в это время увидел перед собой мокрое от дождя и пота лицо своего первого покупателя. Стоя перед испуганным газетчиком, тот махал пустым бумажным листом и грозил полицией.
С этого и началось.
Кухарки, вышедшие с промасленными саквояжиками для закупки всего, необходимого желудкам их хозяев, оказались в довольно трудном положении. Они искали привычных вывесок и находили лишь длинные и узкие, похожие на рыцарские щиты, лишённые девизов, железные прямоугольники, с которых все их буквы, дутые и литые, уползли куда-то прочь, солидаризируясь с типографскими алфавитами.
Двери книжных магазинов хлопали, как заслонки труб, выбрасывающих выхлопные газы. Длинные вереницы людей вталкивались и выталкивались из книжных лавок, перебрасываясь короткими взволнованными словами. Приказчики лавок взбегали по лесенкам, скользили пятками по их ступенькам вниз: перед их испуганными, по-рачьи выпученными глазами были тихо шуршащие, пустые, как небо в безоблачную погоду, тщательно переплетённые в кожу, сафьян и картон, книжные белые листы.
Литературному критику господину Д. нужно было закончить к одиннадцати дня свою статью о… Он ещё не знал с полной точностью, что нужно было написать в заглавной строке после начинающего её «О». Окончание его очерка даже снилось ему этой ночью. Встав с постели в восемь утра, критик надел пижаму, проткнув в две фаянсовых щели, что у окна, металлической вилкой никелированного кофейника, и, выдвинув левый ящик письменного стола, вынул рукопись. Нет, не то – какие-то пустые страницы. Значит, в правом: но и в правом ящике ничего, кроме чистой бумаги, не оказалось. «Может быть, я ещё не проснулся, – бывает, что сны смеются над человеком», – подумал критик Д. и, подойдя к кофейнику, притронулся средним и указательным пальцами правой руки к его никелированному боку. Пальцы обожгло, а крышка чайника, похожая на круглую шапочку китайского мандарина, запрыгала над струями пара.