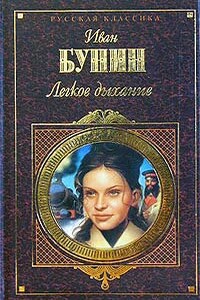Поздно вечером в доме провинциального чиновника Брусилова сидел на старом диване его сын, лет семнадцати, устремив свои глаза в пол и опустив широкие руки на колени. Рядом с ним лежал белый узел. У стола сидела его мать. В соседней комнате слышалось храпенье самого чиновника, недавно возвратившегося из трактира.
– А то подумай, Костя: не остаться ли тебе здесь? – говорила старушка, – авось приищешь себе местечко в приказных… А то Петербург… такая даль…
– Нет, матушка, я уж давно решился идти… Может быть, со временем помогу семейству. Да мне здесь все надоело: надоел отец, надоела гимназия… Что говорить! давно отправляться пора… Не горюйте… У нас свои стремления… мне легче, что я иду.
– Да я не препятствую: господь с тобою! – говорила мать, боясь противоречий, вредных путешествию, – только не знаю, как ты будешь жить в Петербурге?.. денег у тебя нет… Вот жила век целый, хоть бы грош какой припасла.
– На дорогу будет с меня… Да вы не плачьте, а лучше разойдемтесь, матушка: помните, что чрез год я возвращусь к вам студентом…
Мать начала крестить сына; наконец, проговорила:
– Добредешь ли ты, мой родной?.. Дорога дальняя…
– Только до Москвы; а там машина, – сказал сын, перевязывая узел; но, услыхав, что мать плачет, замолчал.
Мать поторопилась выговорить:
– Ну спи себе, мой ненаглядный!
– Что вам кажется странным сделать каких-нибудь полтораста верст? – добавил сын вслед уходившей матери, – любая старуха пройдет больше…
Молодой человек сел за стол и начал что-то вписывать в памятную книжку, в которой находились разные исторические и статистические сведения, сцены, монологи и собственные заметки под заглавием: «Соображения». Эти соображения были весьма отрывочны и, по-видимому, писались на лету. Они были в таком виде:
«18** года** числа. Мы просили позволения у инспектора издавать рукописный журнал; он не позволил. После мы услыхали от его лакея, что он называл нас поросятами. Учителя, узнав о нашем намерении, все скорчили гримасы… Сколько было припасено!.. и критик даже был готов…
Отец председательствует в кабаке ровно неделю. Неужели этому не будет конца!..
Петербург! Петербург! Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, святых надежд!.. Ты кажешься мне великим сокровищем… Без тебя здесь глушат молодость. В доказательство, как я тяготею к тебе, я иду к тебе пешком… Да я ли один? Мысль о тебе озаряет много сердец…
На человека без коренного образования не полагайтесь: он будет во всякое время толковать о просвещении, о прогрессе единственно для упражнения себя в красноречии. Наши учителя нынче будут читать о Шекспире, Байроне; завтра за картами дойдут до драки; а ученику сделают первую на свете низость.
Говорят, наш географ недавно сочинил следующие стихи:
О! как приятно с девой в ночи
Сидеть в саду, когда сад пуст,
Лобзать ее, глядеться в очи —
И вдруг рвануться в дальний куст.
Провинциалы не потерпят вас, если вы явно образованный, просвещенный человек. Они вас будут слушать с испугом и недоверием и будут стараться избавиться от вас. Явитесь вы просто чиновником, любящим выпить, – вы будете понятны и любимы.
Я заметил, что труд сам по себе имеет целебное влияние на нравственную сторону: он именно складывает характер человека. Если бы мне дали в Петербурге какое-нибудь содержание! Пусть какое угодно берут обязательство… Чувствую, что мне предстоит там борьба… Я горд… Застигни меня голод, я решусь умереть, но не унижусь до просьбы… Находят, что я несообщителен. Пока останусь при всем, чем богат, в таком виде явлюсь в Петербург, – там начну новую жизнь…
Кажется, человек может жить без пищи больше недели… Вчера учитель истории с улыбкой спрашивал меня, правда ли, что я собираюсь в Петербург? Странно! чего ж тут усмехаться?.. Не поймешь, что это такое делается!
Всем моим товарищам от души желаю университета… В Андрееве виден будущий литературный богатырь… Кто-то из товарищей спрашивал: „А что, если Андреев пойдет в подьячие? Что выйдет?“ – Вероятно, подьячий и выйдет.
Сегодня я увидал в тетрадке учителя истории следующее: „Ученикам для лучшего удержания в памяти:
Марк Катон Ценсор имел рыжие волосы и серые глаза.
Агезилай – на одну ногу хромал.
Самые воинственные полководцы, отличавшиеся силою ума, как-то: Антигон, Серторий, Ганнибал, Филипп – были кривоглазые.
В Аравии водятся овцы с предлинными хвостами, так что пастух подвязывает им к хвосту тележку…“ и т. д.
Конец!.. Вооружившись быстротою Ахиллеса, через день отправляюсь в Петербург… на душе праздник… Прощайте, прощайте!..»
Вообще в памятной книжке Брусилова было научных замечаний более, чем собственных; как видно, он не слишком любил изливаться на бумаге; а делал свои «соображения» вскользь, не придавая им особенного значения.
Рано утром чиновник Брусилов опохмелялся в трактире, а его сын шел по московской шоссейной дороге с палочкой и узлом. Он шел бодро, сильно работая ногами. Прохожие, смотря на его широкие плечи и поспешную ходьбу, полагали, наверное, что он будет в Москве через четыре дня.
В Петербурге Брусилов представился с письмом своей матери одному седому купцу. Купец, надев на глаза очки, прочитал письмо и сказал сурово: