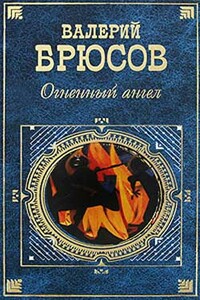Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Пушкин
Пушкин, когда прочитал стихи Державина «За слова меня пусть гложет, за дела сатирик чтит», сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже дела его». Это рассказывает Гоголь, прибавляя: «Пушкин прав». Во времена Державина «слова» поэта, его творчество казались воспеванием дел, чем-то сопутствующим жизни, украшающим ее. «Ты славою, твоим я эхом буду жить», говорит Державин Фелице. Пушкин поставил «слова» поэта не только наравне с «делом», но даже выше: поэт должен благоговейно приносить свою «священную жертву», а в другие часы он может быть «всех ничтожней», не унижая своего высокого призвания. От этого утверждения лишь один шаг до признания искусства чем-то более важным и более реальным, чем жизнь, до теории, с грубой прямотой формулированной Теофилем Готье:
Tout passe. – L'Art robuste
В стихах Пушкина уже звучит крик одного из предсмертных писем гр. Алексея Толстого: «Нет другой такой вещи, ради которой стоило бы жить, кроме искусства!»
У Пушкина, который так часто чутким слухом предугадывал будущую дрожь нашей современной души, – мало произведений, которые до такой степени были бы чужды, странны нам, как эти стихи о поэте!
Возвеличивая «слова» поэта, как Державин унижал их, Пушкин сходится с ним в уверенности, что это две области раздельные. Искусство не есть жизнь, а что-то иное. Поэт – двойственное существо, амфибия. То «меж детей ничтожных мира» он «вершит дела суеты» – играет ли в банк, как «повеса вечно праздный», Пушкин, служит ли министром, как наперсник царей, Державин, – то вдруг, по божественному глаголу, он преображается, душа его встревенулась, «как пробудившийся орел», и он предстоит, как жрец, пред алтарем. В жизни Пушкина эта разделенность доходила до внешнего разграничивания способов жизни. «Почуяв рифмы», он «убегал в деревню» (выражения самого Пушкина из письма), буквально «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы». И вся пушкинская школа смотрела на поэтическое творчество теми же глазами, как на что-то отличное от жизни. Раздвоенность шла даже до убеждений, до миросозерцания. Казалось вполне естественным, что поэт в стихах держится одних взглядов на мир, а в жизни иных. Можно с уверенностью сказать, что Лермонтов, написавший поэму о демоне, не верил в реальное существование демонов: демон для него был сказкой, символом, образом. Лишь очень немногие из поэтов того времени сумели сохранить цельность своей личности и в жизни и в искусстве. Таков был Тютчев: то миросозерцание, которое другие признавали лишь для творчества, было в самом деле его верой. Таков был Баратынский: он посмел перенести в поэзию свое повседневное, житейское понимание мира.
Дорога, по которой идет художник, отделивший творчество от жизни, приходит прямо на бесплодные вершины «Парнаса». «Парнасцы» – это именно те, кто смело провозгласили крайние выводы пушкинского поэта, соглашавшегося быть «всех ничтожней», пока его «не требует» глагол Аполлона, – выводы, которые, конечно, ужаснули бы Пушкина. Тот же Теофиль Готье, сложивший формулу о бессмертии искусства, этот последний романтик во Франции и первый парнасец, оставил и свое определение поэта.
«Поэт, пишет он, прежде всего рабочий. Совершенно бессмысленно старание поставить его на идеальный пьедестал. Он должен иметь ровно настолько ума, как и всякий рабочий, и обязан знать свой труд. Иначе – он дурной поденщик». А труд поэта – это шлифование слов и вставливание их в оправу стихов, как дело ювелира – обработка драгоценных камней… И, верные такому завету, парнасцы работали над своими стихами, как математики над своими задачами, быть может не без вдохновения («вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии», – слова Пушкина), но прежде того со вниманием и уже во всяком случае без волнения. Юный Верлен, бывший первоначально всецело под влиянием Парнаса, со свойственной ему необузданностью, заявил напрямик: «Мы оттачиваем слова, как чаши, и совершенно холодно пишем страстные стихи. Искусстве не в том состоит, чтобы расточать свою душу. Разве не из мрамора Милосская Венера?»
…nous, qui ciselons les mots comme des coupes
Et qui faisons des vers emus tres froidement…
Pauvres gens! L'Art n'est pas d'eparpiller son ame:
Est-elle en marbre, ou non, la Venus de Milo?
Но современное искусство, то, которое называют «символизмом» и «декадентством», шло не этой опустошенной дорогой. На стебле романтизма развернулось два цветка: рядом с парнасством – реализм. Первый из них, хотя, может быть, поныне «золотом вечным горит в песнопеньи», но бесспорно «иссох и свалился», второй же дал семя и свежие ростки. И все то новое, что возникло в европейском искусстве последней четверти XIX века, выросло из этих семян. Бодлер и Ропс, еще чуждые нам по своей форме, но родные по своим порывам и переживаниям, истинные предшественники «нового искусства», – явились именно в эпоху, когда господствовал реализм: и они были бы невозможны без Бальзака и Гаварни. Декаденты начинали в рядах парнасцев, но у них декаденты взяли лишь понимание формы, ее значения. Оставив парнасцев собирать свои Trophees [Трофеи (фр.)], «декаденты» ушли от них во все буйства, во все величия и низости жизни, ушли от мечтаний о пышной Индии радж и вечно красивой Перикловой Элладе к огням и молотам фабрик, к грохоту поездов (Верхарн, Арно Гольц), к привычной обстановке современных комнат (Роденбах, Рембо), ко всем мучительным противоречиям современной души (Гофмансталь, Метерлинк), к той современности, воплотить которую надеялись и реалисты. Не случайно Город наших дней, впервые вошедший в искусство в реалистическом романе, нашел своих лучших певцов именно среди декадентов.