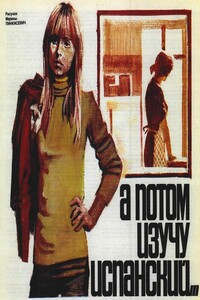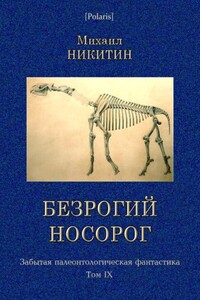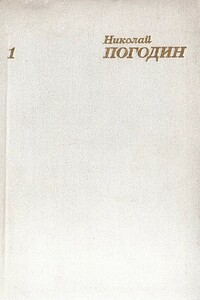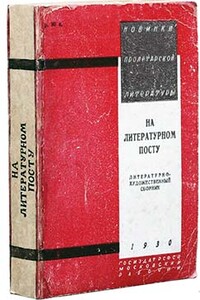В этот осенний, серенький и самый светлый в своей жизни день Николай Андреевич проснулся, как всегда, на рассвете и прежде всего глянул в окно, чтобы узнать, какая погода.
Кружились редкие снежинки и, прикоснувшись к черной, угрюмой земле, мгновенно таяли. Неприветливо блестела лужа под электрическим фонарем возле гаража. Яблони за ночь потеряли последние листья, и по голым ветвям их шныряли синицы.
«Не подморозило. Придется коня гнать по грязи!» — с досадой подумал Николай Андреевич. Сегодня на заседании райкома партии стоял его доклад о жизни колхоза за двадцать лет.
«Двадцать лет! — думал Николай Андреевич, все еще глядя в окно, удивляясь, как быстро промчались годы. Кажется, совсем недавно, вот в такой же осенний день, шагал он, босой, по холодной размокшей глине на первое собрание членов сельскохозяйственной артели «Искра»… — Двадцать лет!» — повторил про себя Николай Андреевич, в радостном изумлении разглядывая яблони, выстроившиеся ровными бесконечными рядами, электрическую лампочку, горевшую над воротами гаража, силосную башню, темневшую вдали, — как будто впервые увидел созданный им мир, и его поразила могучая сила человеческих рук.
Он оделся и, стараясь тихо ступать тяжелыми сапогами, шагнул к двери в соседнюю комнату, но половицы запели под ногами, доски нового пола еще не были пригнаны плотно друг к другу. Нужно было надеть меховую куртку, но тут Николай Андреевич вспомнил, что этой курткой он накрыл сына, и в нерешительности остановился перед дверью, за которой было самое дорогое.
Владимир не был дома около трех лет и вчера приехал неожиданно. Дегтяревы обрадовались, что сын будет на юбилее колхоза, но он сказал, что через два дня улетает за границу со студенческой делегацией. Владимир продрог в дороге, и, хотя в комнате было тепло, мать укрыла его двумя одеялами, а Николай Андреевич, которому тоже хотелось чем-нибудь проявить свою заботу о сыне, накрыл его своей меховой курткой.
«Пусть спит, — подумал Николай Андреевич, отходя на цыпочках от двери, но ему так захотелось хоть одним глазом взглянуть на сына, что он вернулся и, приоткрыв осторожно дверь, заглянул в щель.
Владимир крепко спал, а возле, у изголовья, сидела Анна Кузьминична.
«Видно, всю ночь так просидела», — растроганно подумал Николай Андреевич, закрывая дверь.
Анна Кузьминична пристально вглядывалась в возмужавшее лицо сына, вспоминая тревожные дни его детства. Вот она бежит домой из школы, едва закончив уроки, охваченная смутным беспокойством, свойственным только матери, и сердце не обмануло: Володя полез на крышу, свалился и сломал руку. Он лежит с гипсовой повязкой и шепчет: «Мама, подержи руку». И она сидит всю ночь возле и держит его за ручонку…
В то лето Володя убежал с товарищами на Днепр. Анна Кузьминична не догнала их, она увидела ребят уже с берега: они стояли на самодельном плоту и плыли посередине реки. Володя греб доской, его двоюродный брат Борис Протасов раскачивал плот, а самый маленький из компании, Егорушка, кричал от страха. Борису нравилось, как Егорушка кричит, и он продолжал раскачивать плот. Потом доски, из которых был связан плот, разошлись, и ребята посыпались в воду.
Володя схватился за доску, и она удержала его. Вдруг над водой показалась голова Егорушки, испуганные глазенки его были широко раскрыты.
— Хватайся за доску! — крикнул Володя.
И Егорушка ухватился одной рукой за волосы Володи, а другой за доску, которая тотчас же погрузилась в воду, и они стали тонуть.
Володя, поняв, что доска не выдержит двоих, отпустил ее, и Егорушка поплыл. Но в доску вцепился Борис и оттолкнул Егорушку…
На другой день Егорушку хоронили, и когда гроб его опускали в могилу, Володя закричал и упал с посиневшим лицом. С тех пор в минуты волнения он стал слегка заикаться…
Однажды Володя бесследно исчез. Анна Кузьминична чуть не сошла с ума: она перебирала вещи сына, книги, целовала его ботинки, вскакивала по ночам при малейшем шорохе. Володю искали два месяца, и, наконец, его привел милиционер, — грязного, оборванного, босого; его задержали в Одессе, когда он без билета хотел пробраться на пароход, уходивший в заграничное плавание.
— Куда же ты надумал уехать? — спросила Анна Кузьминична, со слезами обнимая сына.
— В Испанию. Сражаться с фашистами, — ответил Владимир.
И она поняла, что сын все равно уйдет в далекий для нее мир.
Вот и теперь заглянул всего на два дня и сегодня хочет ехать с отцом в район на доклад, и Анна Кузьминична с обидой подумала, что сын не интересуется ее жизнью, не чувствует ее волнения, не замечает ее любви, живет не для нее, а для других. В эту минуту она завидовала брату, Тарасу Кузьмичу, который сумел привить своему Борису привязанность к маленьким радостям домашнего мира. Боренька любит своих родителей, часто навещает и о всех своих жизненных планах подробно рассказывает отцу и матери.
«Разве, — думала Анна Кузьминична, — радость жизни не состоит именно в этих встречах с близкими, в разговоре о мелких, но значительных для семьи событиях, в семейных праздниках, во взаимной ласке и памяти друг о друге?»
Вот она сохраняет портрет матери и отца, как самую дорогую святыню, хотя все уже давно забыли, что существовали на земле какие-то Кузьма Антонович и Марфа Максимовна Протасовы, прожили до восьмидесяти лет и были известны в уезде как лучшие учителя. Неужели и она вот так же исчезнет из памяти людей, растворится без остатка в страшной пустоте небытия? Нет, она будет жить вот в этих яблонях, которые она насадила вместе со всеми. Каждую весну будут расцветать они, и в чистом запахе их будет витать над землей ее бессмертная душа.