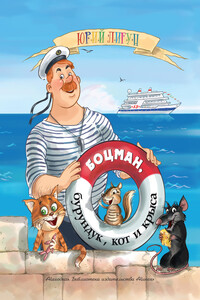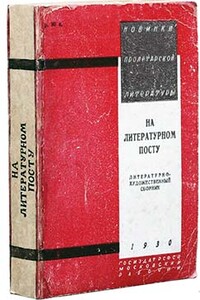В июльские душные сумерки к правлению колхоза «Пробуждение» подскакал на взмыленном коне человек в розовой пропотевшей рубахе, с красным от жары и скачки лицом, без картуза, босой. Он сидел без седла, обхватив живот лошади давно не мытыми ногами.
Не слезая с лошади, он постучал в окно рукой, и на крыльцо выбежал председатель колхоза Тарас Никитич, сразу узнавший в верховом райисполкомовского конюха Герасима.
— Ты что, Герася? — встревоженно спросил он.
Герасим всем своим видом говорил, что прискакал он по какому-то чрезвычайному делу.
— Всю скотину! Чтоб как есть до единой овцы! И телят! Всех!! — прокричал Герасим, еще больше краснея от напряжения.
— Чего всю скотину-то? Толком говори, — сердито сказал председатель, и хотя Герасим действительно впопыхах не сообщил самого главного, догадался, что нужно срочно угонять скот.
— Немец близко! — так же сердито прокричал Герасим и, увидев девочку, показавшуюся из-за плетня, ласково поманил ее пальцем: — Голубонька, ковшичек водицы холодной, да поскорей!
Девочка побежала, споткнулась о камень, поджала левую ногу, постояла и запрыгала, как воробей. Герасим достал из кармана пакет и, передавая его председателю, добавил:
— За Тулу гнать скот надо.
— За Тулу? — испуганно переспросил Тарас Никитич. — За Тулу, — повторил он, и само слово «Тула» прозвучало для него как олицетворение недосягаемой дали. — Прошка-а!! Прошка-а!! — вдруг закричал он, повернувшись к огороду.
Что-то белое, вихрастое, шумное перелетело через плетень — это был парнишка с курчавыми волосами, с ярко-красными губами.
— Опять вишни лопал? — строго спросил отец и, не ожидая ответа, коротко бросил: — Бей на собрание!
Парнишка метнулся вдоль улицы, поднимая пыль. Девочка, несшая ковшик с водой, загляделась на него, ковшик накренился, и вода полилась ей на ноги. Она протянула Герасиму остатки, и тот, опрокинув ковш, крякнул от удовольствия.
— Спасибо, родная… В пятый колхоз скакать надо. Но-о-о… милая! — Герасим ударил пятками по животу коня и, широко расставив ноги и выкинув их вперед, затрясся в такт неровной, сбивчивой рыси.
Над деревней пролетел первый жалобный удар в кусок рельса, за ним — второй, третий, и удары слились в сплошной вопль железа. Со всех сторон к площади бежали люди, а Тарас Никитич уже стоял на водовозке и мял пальцами кончик уха.
Он запинаясь прочитал приказ райисполкома и умолк. Молчали и люди, понимая, что говорить теперь не о чем. Лишь теперь война стала для них реальной, неотвратимой, — еще час назад казалось, что «пронесет», «как-нибудь обойдется»…
— Надо назначить людей для сопровождения стада, граждане. Называйте фамилии… Мне одному этого дела не поднять — проговорил Тарас Никитич.
— И доярок надо… Доить коров беспременно, а то попортить можно скот, — сказал старший пастух Мокеич, старик с пышными бурыми усами и багровым носом.
А людям казалось, что Мокеич говорит чепуху: как это доить в пути, зачем? И куда девать молоко? Значит, и бидоны надо брать?
— И бидоны беспременно, — подтвердил Мокеич. — Подводы надо нарядить…
— Нам мужчин давайте. Мы без мужчин пропадем! — крикнула чернобровая девица с обнаженными выше локтя толстыми руками.
— Ну, ты уж пропадешь, Нюрка, — с усмешкой заметил Мокеич, и все рассмеялись, радуясь, что есть повод посмеяться, потому что трудно было выдержать напряжение тревоги.
— Значит, поедет Нюрка, — быстро сказал Тарас Никитич, — потом, конечно, Марину Петровну просить будем… послужить для общества, — он повернулся к суровой жилистой женщине, возле которой стоял мальчик лет десяти.
И все посмотрели на эту женщину, ожидая, что она скажет. А Марина Петровна погладила мальчика по голове и тихо сказала:
— Я уж и Павлушку с собой возьму.
Мальчик радостно улыбнулся, и ребята с завистью посмотрели на счастливца, который поедет в Тулу.
Солнце позолотило стекла скотного двора, они загорелись, как бы плавясь в огне заката, и все смотрели на длинное строение под оранжевой черепичной крышей, с желтыми, еще не успевшими потемнеть бревнами. За скотным двором поднималась кирпичная башня водокачки, откуда вода текла по трубам в автопоилки. Над башней, как второе солнце, сиял металлический диск ветряка. Три круглых силосных башни стояли, как три великана, и стрелы флюгеров на круглых шапках их смотрели в одну сторону — на закат. И вот все это, чем гордились люди, что украшало их жизнь, вдруг потеряло свой смысл, и нелепыми казались толстые благодушные силосные башни со своими стрелами, и металлическое солнце ветряка, и грузовые машины, уставленные бидонами.
— Вот, граждане, какое, значит, дело-то, — дрогнувшим голосом проговорил Тарас Никитич. Губы его перекосило, и он, быстро спрыгнув с водовозки, пошел, прихрамывая и как-то клонясь набок. Всю короткую июльскую ночь на улицах раздавались голоса, скрипели ворота, лаяли собаки, сновали взад и вперед люди, а когда зарянка возвестила рассвет, люди уже стояли возле скотного двора. Тарас Никитич распахнул ворота, печально зазвенели цепи, которые снимали доярки с коров, и люди еще ближе придвинулись к воротам.
Первой вышла Ворожея — крупная черно-пегая корова с тяжело отвисшим выменем — вожак всего стада. Она посмотрела на толпу и вопросительно промычала, а кто-то истерически крикнул: