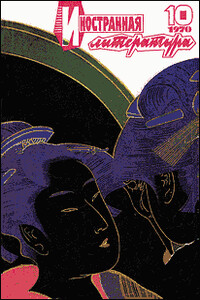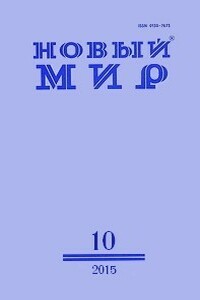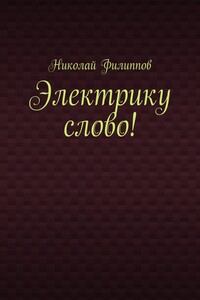В крохотных деревушках, едва насчитывающих двадцать-тридцать дворов, времена года сменяют друг друга тихо и незаметно: приходит и уходит весна, за ней лето, и вот уже наступила осень. Однообразную череду восходов и закатов оживляет лишь кудахтанье кур да пение молодых петушков, пробующих голос. А по ночам устраивают концерты голодные деревенские псы, и долго их заунывный вой тревожит сонную тишину под темно-синим небом.
С самого утра у мечети собираются деревенские старики. Усевшись рядком у стены, они греются на солнышке, дремлют или бреют друг другу головы и бороды. Они часами толкуют о том о сем, посмеиваясь дребезжащим смехом. Глядишь — солнце уже высоко, а они все сидят, клюют носом, то погружаясь в сон, то, просыпаясь, как ни в чем не бывало, продолжают разговор.
Молодые дехкане уходят в поле с первыми лучами солнца. Подбитые гвоздями грубые крестьянские чаруки твердо ступают по дороге. Женщины и девушки весь день сушат кизяк, пекут лепешки, ткут половики и паласы. Дети возятся в песке или, собравшись гурьбой, гоняются за собаками и швыряют в них камнями.
В такой глуши люди падки на все необычное. Каждый словно ждет, чтобы наконец нарушилась монотонность жизни.
И вот с некоторых пор в этой деревеньке начало происходить кое-что новое. Первые лучи солнца еще только касались верхушек войлочных юрт, а по улице уже брела тощая рыжая кляча, нагруженная пестрым старьем — поношенными платьями, рубашками, брюками, куртками, пиджаками. Старики, женщины и дети — все те, кто оставался днем дома, — тотчас окружали ее плотным кольцом и начинали перебирать старые вещи, трясти их, критически осматривать со всех сторон. Каждый, прежде чем купить что-нибудь, без конца выбирал, примеривал, спорил и торговался до хрипоты, а потом нередко так ничего и не покупал. К полудню рыжую лошаденку и невысокого смуглого парня, ее хозяина, сопровождала целая толпа. А когда старьевщик покидал деревню, многие некоторое время шли за ним по дороге в город. А потом долго стояли, глядя ему вслед, и каждый надеялся, что скоро снова его увидит.
Как-то раз, когда смуглый старьевщик и его кляча, окруженные по обыкновению оживленной толпой, медленно брели по деревне, на них со старого полуразвалившегося дувала злобно смотрела сгорбленная старуха, закутанная в белую чадру. Она сердито щурила подслеповатые глаза, что-то угрожающе бормотала, сердито фыркала, всплескивала руками. И даже слезая с дувала во двор, она продолжала ругаться сквозь зубы, поминая Даджала и его осла[1].
Вот уже двадцать лет старуха жила одна-одинешенька в лачуге, стоявшей посреди просторного двора за старой глинобитной стеной. В деревне ее прозвали Биби Карбас, что значит Бабушка Холст, потому что она была искусной ткачихой и всю свою жизнь ткала холсты.
Последние месяцы Биби Карбас совсем лишилась покоя и нигде не находила себе места. Она часами сидела на дувале, поджав одну ногу под себя, а другую свесив внутрь двора, и бормотала, бормотала, возмущаясь и бранясь.
Жители деревни теперь покупали одежду у старьевщика, а холсты у старой ткачихи пылились на полке. Каждый раз, когда взгляд Биби падал на эти семь кусков холстины, ее будто жаром обдавало, и, сдернув с седой головы платок, она воздевала костлявые руки к прокопченному потолку и вопила «Алла!» и призывала на голову своих супостатов все мыслимые немочи и беды.
Однако смуглого старьевщика и его верную клячу не брали никакие болезни и не страшили ни дождь, ни буран. Они каждый день появлялись на деревенской улице, и начинался шумный торг. Потом парень забирал крестьянские денежки и возвращался в город и не подозревая о том, что ему в спину впиваются горящие ненавистью глаза и тысячи самых страшных проклятий летят ему вслед.
В этот день старьевщик приехал в свое обычное время. Торговля шла особенно бойко, он продал одежды больше, чем всегда, пересчитал выручку, спрятал деньги в кошелек и уехал. Биби Карбас уже слезала с дувала, как вдруг с соседской крыши донесся девичий голос:
— Что это ты, бабуся, сиднем сидишь, никуда не выходишь, точно наседка на яйцах? Цыплят, что ли, собралась выводить? Не зайдешь ни к кому, не спросишь ни о чем! Ай-ай-ай!
Биби посмотрела на крышу, увидела в руках соседки свернутое платье. («От того, от супостата!» — подумала она) и выставила кулак, оттопырив большой палец[2]:
— Тебя не спросили! Не к кому мне ходить, одна я на свете... Что за времена настали, господи прости! Ни тебе благодарности, ни тебе уважения. Все вокруг ополоумели, только и знают, что наряжаются в заморское старье! Где стыд, где совесть у людей? Это ли не позор? Работают, работают, гнут спину, собирают по грошику, а потом — нате вам! — напяливают на себя рвань с плеча неверных кафиров! И хоть бы нужда была! Вон у меня семь кусков холста на полке истлело! Нет, спятили вы все, да и только! Иль змея вас в голову ужалила? Бывало, я вас с ног до головы одевала, а теперь, хоть я живи, хоть помри — вам все равно!
Сановбар — так звали соседскую девушку — перебежала с крыши на стену, спрыгнула вниз, поднесла купленное платье почти к самому носу старухи и задорно проговорила: