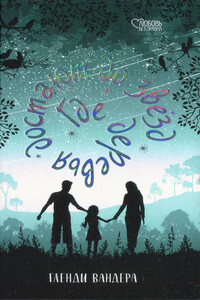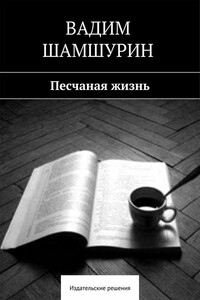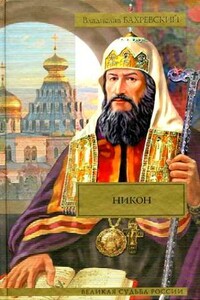Позднее утро. Майское солнышко поднялось высоко, мягко припекая. На хуторе — тишина. Утренние дела давно справлены: скотину на пастьбу проводили, отстряпались, отзавтракали и расползлись по дворам, огородам, левадам к тихим трудам.
Холмистая долина с лугами, попасами, малой речкой. В укрыве, на дне ее горстка домиков вразброс. Ухабистая дорога стекает с холма и кончается. Дальше некуда ни идти, ни ехать. Тишина и покой. Весенние птичьи трели: скворцы заливаются, ласточки щебечут, стонут горлицы… Мир и покой. И потому голос человеческий, негромкая песня, звучит явственно:
Наши дни проходят очень быстро,
Все короче становится жизни путь.
Не пора ли вам, Василь Иваныч,
Потихонечку присесть и отдохнуть…
Песня негромкая. Но в тихом хуторском мире ее далеко слыхать. Жалостливые слова, звуки перекатываются и не сразу гаснут, отзываясь в окрестных холмах: «О-о-отдохну-у-уть…» Словно уже не слова человеческие, но глас Божий. «О-о-отдохну-у-уть…»
Старая Катерина — бабка не больно чувствительная — невольно к песне прислушалась, даже замерла посреди огорода и опустила мотыгу, вздыхая и искренне соглашаясь с певцом: «Взаправди… Пора бы и отдохнуть. Сколь лет-годов… А все — работа, работа. Огород, картошка, куры, поросята… Ни дня, ни ночи… Здоровья нет… А все надо, надо… Завтра помрешь, и ничего не надо…»
Певун смолк. Старая женщина, опомнившись, чертыхнулась: «Нечистый дух… Устал он. Смучился, бедный… Перину мять да подушки переворачивать». И принялась мотыгой орудовать споро, нагоняя упущенное. А потом вдруг — иная мысль, и мотыга — в сторону. «Это он чего-то уже упер, соловушка, упер и отнес, на самогон сменял, вот и запел». Старая Катерина в меру сил, вперевалочку, помчалась проверять свои запоры да живность: поросенок на месте, куры… «Цып-цып-цып… — сзывала она для пересчета хохлатое племя. — Цып-цып-цып…»
Тревога старой Катерины напрасной не была. Пел не кто-нибудь, а Васька Рахман, соседушка. «Не пора ли нам, Василь Иваныч…» Значит, уже сыт, пьян, нос в табаке, и потянуло на песни…
— Цып-цып-цып…
Одна, две, три, четыре, пять, шесть… И кочет на месте.
Значит, где-то еще ухватил. Вот и запел: «Не пора ли нам…» Невелик хутор, но есть еще чем поживиться.
Жилье Васьки Рахмана — на взгорке. Воронье гнездо, из которого все видать. Оно и по виду — воронье: почерневший от времени дощатый дом с прорехами да щелями, с разваленной кирпичной трубой, остатками крылечка. Когда-то такие дома колхоз строил для переселенцев, назывались они «сборными», их складывали, точно карточные домики, из дощатых с теплой начинкою щитов. Добрые хозяева такие дома сразу же обкладывали кирпичом, делали наличники, ставни, прочую пользу и красоту наводили, чтобы жить хорошо и долго. Рахманам, как говорится, красоту не лизать. Как влезли, так и сидят, словно в тине. Одно слово Рахманы.
— Наши дни проходят о-о-очень быстро-о…
Певун — на виду: мордастый, с пузцом Васька Рахман.
«На виду», потому что дом его — словно пуп. Голо вокруг: ни палисадника, ни забора, ни ледащего огородика, тем более — дерева ли, куста.
— Нас советская власть воспитала! — четко ответит любому Верка Рахманиха. — За заборами хорониться не привыкли! Кулаки нехай прячутся и подкулачники! А мы открытой душой ко всем людям!
— А где же огород, картошка?..
— Я по специальности не овощевод, — веско и с расстановкой ответит Васька Рахман. — Я — скотник, техникум имею и стаж. Предоставьте работу!
Он будто и вправду когда-то и где-то чему-то учился. А скотником работал уже здесь, на хуторе, при колхозе.
Славное было время — колхоз. Взяли и построили возле хутора не просто коровник, но огромный животноводческий городок. «Комплексом» его именовали.
Пылили из областного центра караваны грузовиков с кирпичом да лесом; понагнали техники, людей. И возвели белокаменный город под шиферными крышами. Привезли из Англии — морем, потом вагонами, а потом «скотовозами» — телок, быков: черная масть, могучее сложение — абердины, иностранцы, одним словом, элита.
Верка Рахманиха стала при скотине бумажки писать да щелкать на счетах. Супруг ее, Васька, — старший скотник, как имеющий опыт и образование. А еще там были: Сашка Рахман — родной брат Васьки, пара молодых рахманят, да еще старый Рахман — отец всего рода.
Это была жизнь… До сих пор ее вспоминают. Круглые сутки в рахмановской хате кипел в котле жирный мясной шулюм. Рахманята росли как на дрожжах; у них щеки от сытости лопались. Рахманы постарше не только от еды пухли, но и от пьянки.
Коля Бахчевник — поставщик самогона для хутора и округи — не знал, куда мясо девать: ездил продавать в станицу, тушенку производил, второй холодильник приобрел.
— Не пора ли, ох не пора ли… — задумчиво пропоет кто-либо из Рахманов. И вот уже: предсмертный мык, хрипенье. Мясной шулюм кипит. Коля Бахчевник ругается: «С вашим мясом…» Но куда он денется? Бизнес.
— Ох, не пора ли…
Породистые телята шли нарасхват, окрестные стада улучшая.
Весной да осенью, обычно за неделю до контрольных перевесов, когда колхозная комиссия считает поголовье да взвешивает: сколь мясов нагуляли — в такую пору по хутору пролетала весть: украли с фермы скотину.