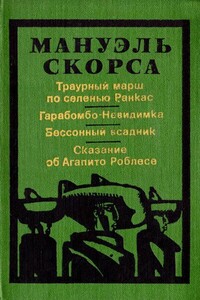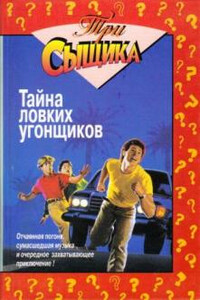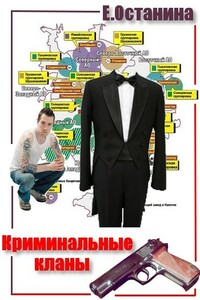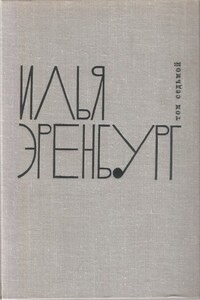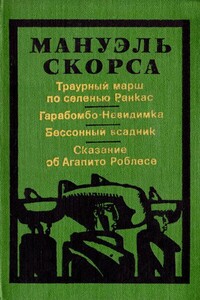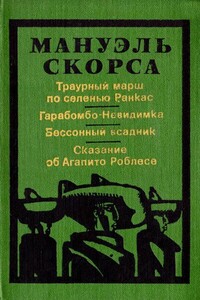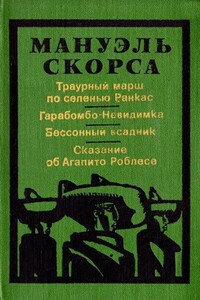Глава первая,
о том, как река Чаупиуаранга осталась Чаупиуарангой, хотя и перестала быть рекой
Я первым заметил, как обленилась вода. Живу я у Ракре, в хижине, которую щадит половодье, и знаю все повадки реки. Как-то в августе (а то и в декабре) отправился я с утра загонять форель в заводь, смотрю – вода еле течет. Я только переболел, в Уануко заразился, несло меня, и к полудню поближе пошел я нарвать на берегу целебных листочков. Глянь – а вода та же самая. Испугался я, но решил обождать. Чтобы унять страх, точил я до ночи ножницы, подуспокоился, опять иду. Вода стоит, как стояла. Ну, чтоб сгоряча не ошибиться, поставил я опыт. В четверг (или в пятницу, а может – в понедельник) поехал я в Янауанку. Знаю свое, язык держу за зубами и покупаю немножко лиловой краски. Назавтра, в пятницу (а может, во вторник), высыпаю ее в реку. По краске увидишь, как вода течет, что река замыслила. Высыпал я весь мешочек и ушел. Солнце печет, дышать нечем. Нашел я, где тень, поел инжиру, полегче мне стало, совсем успокоился – и заснул под деревом. Никогда снов не вижу, а тут приснился отец, несет мехи с водой. Я было испугался, но он глядит спокойно, хорошо, я ему руку поцеловал. Водица льется, а он сел на скамью, спросил про своих про Друзей. Хочу ответить, но он еще спрашивает: «Может, чем угостишь?» Дал я ему баранью ногу, что осталось. Он ее доел а не видит, что вода течет, у скамьи залило ножки, мне выше пояса Не дожидаясь, что я предложу, берет другую ногу, и вяленое мясо, и маис – на стене висели, – а сам кричит:
– Клади мне в суму, Магдалено! Скоро и того не будет голод идет.
Жует и хохочет, никогда он так грубо не смеялся.
– Не дури, Магдалено! Жри, сколько влезет. Спеши скоро локти будешь кусать!
Обернулся он кроликом и пропал. Я проснулся, на сердце у меня тяжело. Смеркается уже, во рту печет, пошел я к реке. Смотрю – краска где стояла, там и стоит, недалеко от тех же самых кустиков. Пятница была или понедельник? Ну, думаю, этот гад Сиснерос всучил мне пакость какую-то; и в субботу (а может – в четверг) еду я в город – проверить, хороша ли краска. На этот раз купил три пакетика – красной, морковной и зеленой все в разных магазинах, и каждому хозяину сказал, что это я хочу покрасить плащ Пречистой Деве. Думал, хоть святыни постесняются, не обманут. Никому ничего не говорю, еду домой. В воскресенье (или когда ж это?) влез я в реку, где мне выше груди, и высыпал краску в трех разных местах: красную – у дерева, которое молнией разбило, зеленую – около того, лилового пятна, морковную – там, где унесло течением мою корову Телку. Под вечер так и тянуло поглядеть, но я удержался. А в понедельник (или когда там?) у меня глаза на лоб полезли: стоят островки и стоят – красный, морковный, зеленый.
Отправился я опять в Янауанку, к главе общины, но дон Раймундо Эррера был в Тапуке, на крестинах у Медардо Руиса, который на восьмом десятке еще одного ребенка сплодил. Ах ты, нехорошо! Когда наш отец Часан заклинал сатану, в самое это время, повстречал я братьев Маргарито, чтоб им лопнуть! Было мне худо. Стоял туман, похолодало, даже эвкалипты меньше пахли, а меня палил жар. Захожу я в кабачок «Метис», а братья там пьют, они быка продали, кстати сказать – чужого. Вот уж не повезло! Я с ними не здороваюсь, прошу две рюмки тростниковой, дон Глисерио наливает, но удивляется, я ведь непьющий. А братья Маргарито – чтоб их всех! – тут и решили, что я пьяница.
– Хитрый вы, дон Магдалено, никто и не знал!
Донья Факунда говорит:
– Это надо отметить! Налей еще одну Магдалено, в кои-то веки нас, бедных, удостоил!
– Что тут отмечать? Не беспокойтесь вы, к чему такие заботы!
– Забота – не работа, была – и сплыла, ха-ха-ха!
Я и не слушаю.
– Видели вы, дон Глисерио, что река творит?
– Течет, надо думать, – говорит хозяин.
– Нет, стоит, остановилась.
– И то хорошо! – болбочет младший Маргарито. – У нас в Янауанке никто не остановится…
Приложил я руку ко лбу, лоб горячий.
– Который день еле движется. Вчера вот…
– Что ж нам, дон Магдалено, на костыль ей сложиться?
– А то мула ей купим! Налейте-ка еще рюмочку, дон Глисерио.
Я ушел. Сами посудите, что еще делать? Овец своих оставил, такой путь прошел, хотел бедой поделиться, а им смех. Нет, что за люди, недоноски какие-то или переношены!
Через три недели река совсем стала.
Зимой она всегда уносила то козу, то корову, то ослика, даже погонщики тонули. А тут дурь нашла – стоит и стоит, как лужа! И что же, почесался кто-нибудь? Власти, префектура? Куда там! В Янауанке даже обрадовались. Теперь говорят: «В Янакоче тоже не чесались». Вот хотя бы прошлое воскресенье, Карвахали праздновали годовщину, как Исаак вышел на свободу, и Янауанка с Янакочей стали препираться, кто виноват, уже и драка началась, а дон Эдмундо Руис, спьяну, скажи нашим:
– Озера им плохи! Чего ж это вы раньше радовались, а? Кто вас за язык тянул?
– Янакоча еще не была портовым селеньем, – говорит Исаак Карвахаль.
Дону Эдмундо крыть нечем. Кто-кто, а он знает, что ни Янакоча, ни Чипипата, ни Ракре, ни Успачака, ни Тапук, ни Уайласхирка портами не были. Я сам их объездил, когда играл на кларнете у братьев Уаман; мне ли не знать, когда этот край стал приморским! Чаупиуаранга текла все тише, пока не остановилась – у нас, в провинции; повыше и пониже все оставалось как раньше. Как-то заехал я за Уаспачаку, думаю – река спит, переведу-ка я вброд корову дяди Педро. До сих пор за нее выплачиваю!.. Но это