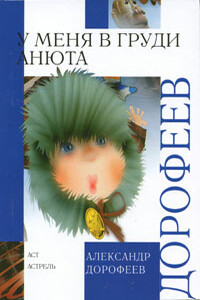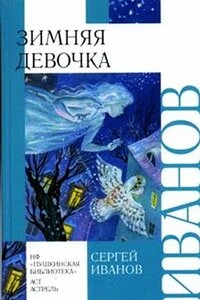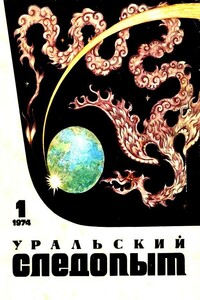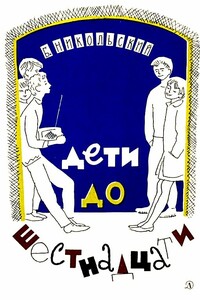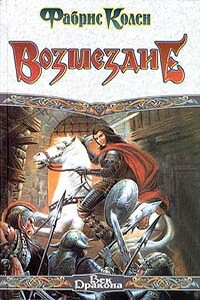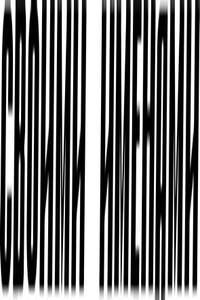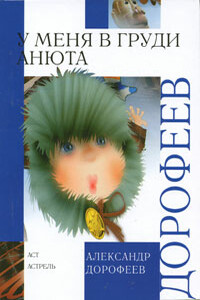Дрозды клевали на огороде клубнику. Они резко и жирно квохтали, подзывая приятелей. Рано утром склевывали ягоды. До половины со спелого бока.
Толстые коричневые тельца упруго подскакивали в клубничных зарослях. Наглый грабеж! С криками выбегал я из дому. Дрозды, треща крыльями, стрекоча, якобы напуганные до смерти, скрывались в кронах деревьев. Следили оттуда, когда мне надоест торчать на огороде. А надоедало быстро – делать тут было нечего, если не клевать клубнику.
У сарая подыскал я двухметровый березовый кол. Прибил перекладину. «Вот и человек поначалу-то был так же прост – тяп-ляп. А вон как изменился!» – думал я, роясь в сундуке. Откопал две шляпы и три пиджака. Шляпы – летние, соломенные, мятые. Пиджаки – хоть куда! Один еще недавно дедушка носил. Двубортный и приталенный.
Сундук облагораживает – чем дольше вещи лежат, тем более в них значительности. Цвет матереет, покрой моднеет. И нафталин ароматен, как тонкий одеколон.
Подвернулись рыженькие искристые брючата и галстук с попугаем. В облаке воспоминаний вернулся я к березовой крестовине. Пиджак был тесноват в плечах, и я обпиливал перекладину, когда подошел дедушка.
– Что это тут? Одежду разбросал…
– Пугало строю. А то клубнику клюют.
– Какая клубника, если спать до полдня! Птицы умнеют, а иные люди – никак. Попилил бы дрова, чучелко!
Отвлекая дедушку, я прикинул рыжие брючки, едва достававшие до щиколоток.
– А когда-то впору были…
– Здорово вымахал, – вздохнул дедушка.
Сбить его с дороги было мудрено, и я покорно слушал, разбирая сундучное добро.
– Не много нажил, – заканчивал он. – Разбрасываешься! А человек должен иметь твердую цель в жизни. Эх, чучелко, – махнул рукой, вытащил из кучи шляпу и, примеряя, удалился в сарай, откуда враз послышалось жужжание, постукивание, завывание. Дедушка точил по заказу общества кружевниц деревянные колокольчики. Выходили, как настоящие, – с деревянным же язычком. Березовые колокольчики подвешивали на сплетенные кружева. Они, конечно, не звонили, а скромно постукивали. Когда дедушка вытаскивал из сарая связки колокольчиков, они косноязычно шелестели, как баранки.
«Пугало – не чучело, – думал я, прибивая к березовой крестовине березовые руки и ноги. – У пугала твердая цель – пугать!»
Гвозди входили уверенно. Сухой стук прыгал среди сосен. Крест преобразился в голую и суровую древнюю букву, которую неизвестно как произнести. Лучше прикрыть одеждой.
С рубашкой и пиджаком хлопот не было. Зато штаны не налезали, цеплялись за сучки. Наверное, так же трудно обряжать одеревеневших покойников. Подпоясав веревочкой, я поставил его на ноги и глянул – как бы вдруг.
У куста бузины, чуть косовато, замер, вроде подстерегая, мрачный мужик – из ворота рубахи торчал березовый обрубок. Казалось, голову только что отсекли, и мужик еще не догадался. Торопливо накрутил кулем ветхую простыню, разгладил морщины на будущем лице и нахлобучил шляпу. Однако в руках пустовато. Отыскал прошлогодний желтый портфель и прибил сапожным гвоздиком. Мужик сразу приосанился, белея из-под шляпы пустой простыночной мордой. Хотелось нарисовать хорошее лицо, с доброй улыбкой. Но вылезли сами собой голубенькие унылые глазки, мягкий розовый нос, вялый румянец на дряблых щеках и оплывший подбородок. Не такого я задумывал. Впрочем, уж каков уродился. «Фома Платоныч, – послышалось, – агроном со стажем».
Подхватив, бережно отнес на огород. Воткнул у клубничной грядки в рыхлую землю. Снял шляпу. И обухом топора влепил по белому темени – простыня расползлась, выперла березовая кость. Воровато оглянувшись на дорогу, ударил еще пару раз, и Фома Платоныч утвердился охранять посевы.
Рваное небо плавало в облаках. Пустая асфальтовая дорога была серо-синей, холодной, как осенняя река. Сосны убегали высоко вверх и там мотались из стороны в сторону под ветром. Трещали, как сороки, дрозды, носясь меж деревьями. В сарае выл дедушкин токарный станок. И только пугало Фома Платоныч, агроном со стажем, стоял недвижно средь огорода. Даже желтый портфель не шевелился в его руке.
Порывами, как из лейки, сыпался дождь, и простыночное мятое личико менялось, как хотело. Из-под носа вытекли усики, возникли лохматые бакенбарды и неприятные складки вокруг рта. Совсем противным стал Фома Платоныч, а все ж отчасти родственным. Подобное, верно, могут чувствовать пожилые родители к неоправдавшему надежд стареющему сыну.
– Обед! Обед! – покричал от сарая дедушка, взмахивая деревянным колокольчиком. – Фу-ты ну-ты! – подошел к грядкам. – А я смотрю – с кем на огороде топчешься?! Бродяжка какой-то! Вон, как опуститься можно – пиджачишко затрепанный, штаны вкривь-вкось. А шляпа на что похожа? Воронье гнездо! Погоди – другую принесу.
Дедушка сходил в сарай за шляпой и сам надел Фоме Платонычу – чуть на затылок, с наклоном влево.
За обедом все косился дедушка в окно, на огород.
– Тьфу! – не стерпел во время компота. – Так и кажется – чужие бродят! Поставил ты чучело на беду! Смотри, обчистят. И пиджак не плох, и шляпа свежа. А портфель! Сам бы носил.
– Потерпи до осени, – попросил я. – Без портфеля Платоныч сам не свой.