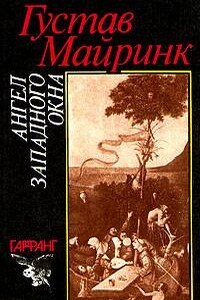Густав Майринк
Bal Macabre
Лорд Хоуплес был настойчив: он усадил меня за свой стол и представил каким-то господам.
Было уже далеко за полночь, и большинство имен я не запомнил.
С доктором Циттербайном мы были знакомы.
– Извините, но нам просто жаль, что вы сидите всегда один, – сказал он, пожимая мне руку. – Почему?
Я выпил совсем немного, однако отдельные слова, казалось, доносились издалека, сквозь легкий неуловимый кейф, какой обычно наступает в поздние ночные часы, когда табачный дым, женский смех и звуки канкана обволакивают вас особенно плотно.
Каким образом здесь, среди цыган, кек-уока и шампанского, мог возникнуть разговор о вещах фантастических?
Правда, лорд Хоуплес утверждал, что такое братство существует на самом деле – его члены, покойники или спящие летаргическим сном, принадлежали когда-то к высшему кругу, для всех живых людей они давно мертвы, лежат на кладбище в своих склепах, и их имена и даты смерти высечены на надгробных плитах. В действительности же, скованные вечной каталепсией, они находятся где-то в городе, в стенах какого-то древнего здания, – бесчувственные и нетленные, покоятся в особых выдвижных ящиках под охраной горбатого слуги в башмаках с пряжками и в напудренном парике, которого зовут «залатанным Ароном». В определенные ночи у них на губах проступает матовое фосфоресцирующее свечение, которое служит горбуну знаком к началу таинственной процедуры на шейных позвонках этих лжемертвецов.
Теперь они, сбросив ненадолго оковы мертвого сна, могут свободно предаваться порокам большого города. С той исступленной жадностью, которая немыслима даже для самых рафинированных либертинов.
Жизненную энергию они либо крадут, обогащаясь за счет нервного зуда толпы, либо вампирически, наподобие клещей, всасываются в какого-нибудь пресыщенного распутника, душа которого уже не способна сопротивляться. У этого клуба, который носит странное имя Аманита, есть свои заседания, устав и строгий регламент приема новых членов. Но все это скрыто непроницаемым покровом тайны.
Конец я не расслышал, слишком громко взвизгнул избитый уличный мотив:
Да, да, да, Клара,
ты без обмана.
Трала, трала, трала,
тра-лалала-ла.
Этот неоконченный рассказ, как все искалеченное и уродливое, производил тягостное впечатление, а парочка мулатов, которая выворачивала суставы в каком-то негритянском канкане, только усиливала его.
Здесь, в ночном ресторане, среди размалеванных уличных проституток, кельнеров с бритыми затылками и набриолиненных сутенеров с их непременными подковами на счастье, история эта казалась мне каким-то жутким порождением кривого зеркала.
Время, когда оно остается без присмотра, всегда внезапно учащает свой бесшумный шаг, часы сгорают в секунды, вспыхивая в душе как ослепительные искры, чтобы высветить болезненные сплетения странных рискованных снов, сотканных из обрывков мыслей, из прошлого и будущего. Подобно тому, как сейчас в тумане моих грез снует уток чьего-то голоса: «Мы должны послать приглашение клубу Аманита».
Ага, соображаю я, собеседники за столом вновь и вновь возвращаются к прежней теме.
Происходящее уже доходит до моего сознания, правда, какими-то короткими вспышками: вот разбивается бокал с ликером, тихое посвистывание – и на моих коленях сидит какая-то француженка, целует меня, вдувает мне в рот дым сигареты и кончиком языка щекочет ухо. Потом, в который уже раз, мне подсовывают украшенную завитушками открытку: я должен подписать, но перо выпадает из моих пальцев – и вот снова неудача, так как кокотка опрокидывает шампанское мне на манжеты.
Да, да, да, Клара,
ты без обмана, —
пронзительно выводят рефрен скрипки и вновь погружают мое сознание в глубокую ночь.
Стоит закрыть глаза, и кажется, что лежишь на толстом черном бархатном ковре, на котором там и сям тлеют алые рубины цветов.
«Надо бы перекусить, – доносится до меня. – Что-что?.. Икра? Чепуха. Принесите-ка мне… да – принесите-ка мне маринованные грибы».
И мы едим маринованные грибы, которые вместе с какой-то пряной травой плавают в светлом, насыщенном волокнами рассоле.
Да, да, да, Клара,
ты – не отрава.
Трала, трала, трала,
тра-лалала-ла.
За нашим столом вдруг оказывается странный акробат в болтающемся трико и справа от него какой-то горбун в маске и в белом льняном парике.
Рядом – незнакомая женщина; и все смеются.
Вот только как он сюда проник – с этими? Я оборачиваюсь: кроме нашей компании в зале никого.
«Ерунда, – думаю я себе, – ерунда!»
Стол, за которым мы сидим, очень длинный, и большая часть скатерти, свободная от тарелок и бокалов, белоснежно искрится.
– Мсье Фаллоид, станцуйте же нам, – кто-то из господ похлопал акробата по плечу.
«Уже без церемоний, – грезил я, – ви… видимо, он давно сидит здесь, этот… этот… это трико».
И я смотрю на горбуна, и наши взгляды встречаются. Белая лакированная маска и поблекший светло-зеленый камзол, сильно изорванный, весь в заплатах.
Оборванец!
Его смех напоминает звук какой-то жуткой трещотки.
«Crotalus! Crotalus horridus!»[1] – всплывает слово из школьной поры; я уже забыл, что оно означает, однако, прошептав его, содрогнулся.
Рука юной кокотки уже под столом, на моем колене. Я перехватываю ее.

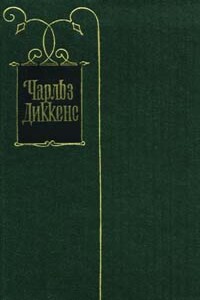
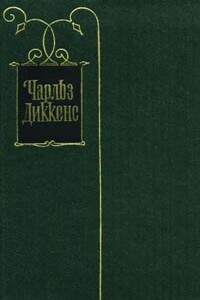
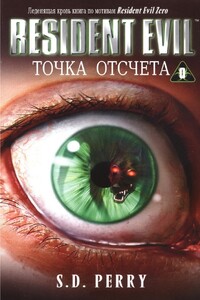
![Логофет василевса [Путь к трону. Князь Глеб Таврический]](/storage/book-covers/27/276db1b4269b5e49234665cc113599deeea473a4.jpg)